Это может показаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.
Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно – погибнуть такой смертью и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества Божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над бездной несколько помутило мой разум.
Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана – он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого исступления может довести ветер и хлестанье волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей, – так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена.
Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плыли, а словно летели, содвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принайтованный к корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.
Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой – я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.
Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.
«Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну…»
Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Внезапно открывшееся мне грозное величие – вот все, что я видел. Когда я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говоря – палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.
Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому, колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.
Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину, но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругами, но не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.
Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.
Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов – разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильней разгоралось во мне, по мере того как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в клокочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет, – и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт – неизменной ошибочности моих догадок – натолкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.
Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие надежды. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припомнил весь тот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепа на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно, другие же – потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине – опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило, чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы, цилиндрическое погружалось медленнее. После того как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов – «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось, в сущности, естественным следствием той формы, какую имели плывущие предметы, и почему так получалось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее любой иной формой [56 - Архимед. О плавающих предметах, II.].
Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.
Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать найтов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но – так это было или нет – он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Дотянуться до него было невозможно; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой бочонок был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.
Результат оказался в точности таким, как я и надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немногим больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего милого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали внезапно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого ужаса. Меня подобрали мои старые приятели и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите мне больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.
Перевод М.Богословской
Лигейя
И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей.
Джозеф Гленвилл
И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья… о, конечно, она мне о ней говорила… И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом – Лигейя! – воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и в конце концов – возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шутливый запрет моей Лигейи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз – исступленно романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно, так удивительно ли, если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие? И поистине, если дух, именуемый Романтической Страстью, если бледная Аштофет [57 - Богиня финикийского города Сидона (II тысячелетие до н. э.), на месте которого ныне находится ливанский город Сайда. В древней Финикии поклонялись также богине плодородия – Ашторет (Астарта), которую почитали и в Египте. Астарта упоминается в стихотворении По «Улялюм».] идолопоклонников-египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то, бесспорно, она председательствовала и на моем брачном пиру.
Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незыблемо. Это – облик Лигейи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле – даже исхудалой. Тщетно старался бы я описать величие и спокойную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и грациозность ее походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал ее присутствие в моем уединенном кабинете, только услышав милую музыку ее тихого прелестного голоса, только ощутив на своем плече прикосновение ее беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опиумных грез – эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантасмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса [58 - Согласно греческой мифологии, на острове Делос родилась и жила вместе с подругами богиня Артемида, покровительница женского целомудрия.]. И тем не менее в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих ваятелей. «Всякая утонченная красота, – утверждает Бэкон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, – всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность» [59 - «Всякая утонченная красота всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность», – слова Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), получившего в 1618 г. титул барона Верулама, в его эссе «О красоте» (1625). У Бэкона не «утонченная красота», а «совершенная красота».]. И все же хотя я видел, что черты Лигейи лишены классической правильности, хотя я замечал, что ее прелесть поистине «утонченна», и чувствовал, что она исполнена «странности», тем не менее тщетны были мои усилия уловить, в чем заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение «странного». Я разглядывал абрис высокого бледного лба – он был безупречен (о, как холодно это слово в применении к величию столь божественному!), разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на тонко очерченный нос – такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупречность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного – великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков – те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену [60 - Это имя значится на статуе Венеры Медицейской. Аполлон, покровитель искусств, назван здесь как вдохновитель создателя знаменитой скульптуры.], сыну афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигейи.
Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. Они, мнится мне, несравненно превосходили величиной обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газельих глаз женщин племени, обитающего в долине Нурджахад [61 - Имеется в виду «восточный» роман «История Нурджахада» (1767) английской писательницы Фрэнсис Шеридан (1724–1766), матери известного драматурга.]. И все же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигейи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновенья ее красота (быть может, повинно в этом было одно мое разгоряченное воображение) представлялась красотой существа небесного или не землей рожденного – красотой сказочной гурии турков. Цвет ее очей был блистающе-черным, их осеняли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако «странность», которую я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске – ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла! За обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла! Чем было то нечто, более глубокое, нежели колодец Демокрита [62 - Имеется в виду приписываемое Демокриту (ок. 460–370 гг. до н. э.) высказывание «Истина обитает на дне колодца».], которое таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звезды-близнецы, рожденные Ледой [63 - Две яркие звезды в созвездии Близнецов, носящие имена Кастора и Полидевка – согласно греческой мифологии, двух братьев-близнецов, рожденных Ледой от Зевса.], и я стал преданнейшим из их астрологов.
Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлекший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, – и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И (странная, о, самая странная из тайн!) в самых обычных предметах вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как красота Лигейи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие сущности материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора. Я ощущал его во взорах людей, достигших необычного возраста. И были две-три звезды (особенно одна – звезда шестой величины, двойная и переменная, та, что соседствует с самой большой звездой Лиры [64 - Имеется в виду звезда Бега в созвездии Лиры. Двойная звезда этого созвездия известна под именем Эпсилон Лира.]), которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струйных инструментов и нередко – строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла, неизменно (быть может, лишь своей причудливостью – как знать?) пробуждавший во мне это чувство: «И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».
Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Лигейи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех женщин, известных мне в мире, она – внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя – с наибольшим исступлением отдавалась в жертву диким коршунам беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали и страшили меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы (вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить) тех неистовых слов, которые она так часто произносила.
Я упомянул про ученость Лигейи – поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, и все наречия современной Европы – во всяком случае, известные мне самому, – она тоже знала безупречно.
Да и довелось ли мне хотя бы единый раз обнаружить, чтобы Лигейя чего-то не знала – пусть даже речь шла о самых прославленных (возможно, лишь из-за своей запутанности) темах, на которых покоится хваленая эрудиция Академии? И каким странным путем, с каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены! Я сказал, что такой учености я не встречал у других женщин, но где найдется мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь, – что знания Лигейи были колоссальны, необъятны, и все же я настолько сознавал ее бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился ее руководству, погружаясь в хаотический мир метафизики, исследованиям которого я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигейя склонялась надо мной во время моих занятий (без просьбы, почти незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая обещала привести меня к цели – к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной!
Так сколь же мучительно было мое горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрыленные надежды безвозвратно улетели прочь! Без Лигейи я был лишь ребенком, ощупью бродящим во тьме. Ее присутствие, даже просто ее чтение вслух, озаряло ясным светом многие тайны трансцендентной философии [65 - Движение философского идеализма в Америке XIX в. По считал эту философию наивной.], в которую мы были погружены. Лишенные животворного блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна. А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Лигейя заболела. Непостижимые глаза сверкали слишком, слишком ослепительными лучами; бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого легкого волнения. Я видел, что она должна умереть, – и дух мой вел отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом [66 - В мусульманской мифологии ангел смерти.]. К моему изумлению, жена моя боролась с ним еще более страстно.
Многие особенности ее сдержанной натуры внушили мне мысль, что для нее смерть будет лишена ужаса – но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно сопротивлялась она беспощадной Тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающее душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой ее необоримого стремления к жизни, к жизни – только к жизни! – и утешения и уговоры были равно нелепы. И все же до самого последнего мгновения, среди самых яростных конвульсий ее неукротимого духа она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Ее голос стал еще нежнее, еще тише – и все же мне не хотелось бы касаться безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова туманилась и шла кругом, пока я завороженно внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям и надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:



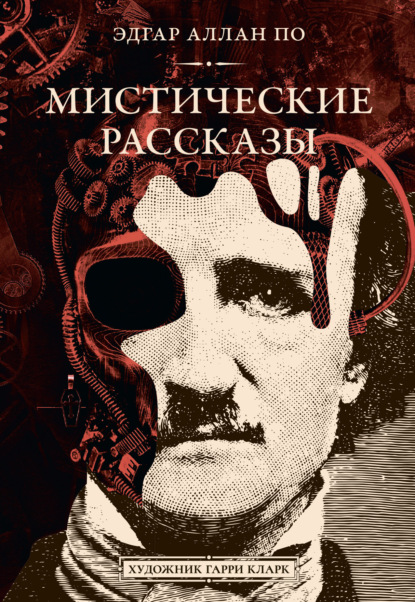




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0