Этим утром во сне «Восходящая Венера» была закончена, и, пока он изготавливал гипсовую форму, она ожила и вожделенно потянулась к нему. Но стоило ему обнять ее, как она вдруг ожесточилась и стала неумолимой, а потом глина треснула и раскрошилась в его руках. У нее было лицо Майры. Помимо явного сексуального подтекста сновидения, замешанного на страхе, в нем, как он понял, заключалось озарение – так у него возникла мысль привнести в лицо Карен кое-какие черты ее сестры, которые ему запомнились, и, наделив образ недостающей индивидуальностью, вернуться в некотором смысле к исходному характеру. Он понял: выражению губ надо придать решительности, да и глаза придется изменить. Кончиками пальцев он мог ощутить податливость глины. Но сейчас это не главное – не стоит торопиться, иначе он все испортит. За красотой Майры всегда скрывалась волнующая сила, чего не хватало Карен. Как же это выразить?..
Четыре года назад – кипучая, горячая, невероятно энергичная. Всегда в центре событий – будь то студенческая забастовка или кампания по сбору средств; выступление против внешней политики; борьба за права студентов, профессорско-преподавательского состава, меньшинств; протест в защиту выселенцев, бесправных и обездоленных. И уж будьте уверены: случись какая-нибудь манифестация, сидячая забастовка, или диспут-семинар в защиту гражданских прав, или демонстрация протеста с захватом жилья для ночевки, или марш против войны и бедности – Майра была тут как тут, всегда готовая помочь делу и возглавить его при поддержке неизменного своего окружения в виде восхищенных представителей сильного пола, согласных идти за нею куда угодно.
Он вспомнил ее смех, увидел, как она держит руку, когда спорит (ладонь обращена вверх, пальцы согнуты, будто удерживая мысль, как у роденовского «Проповедующего Иоанна Крестителя»[4 - Имеется в виду статуя французского скульптора Франсуа Огюста Рене Родена (1840–1917) 1878 года.]), увидел проникновенный взгляд ее голубых глаз, пленяющих всякого, кто подходил к ней близко, сраженный исходящим от них рвением. Он вел себя, как и все: сначала восхищался издали, потом вблизи. А обожателей у нее всегда было хоть отбавляй. Так, в конце концов, он свыкся с явившимся ему во сне образом Майры в роли живой обнаженной натуры, которую он собирался назвать «Восходящей Венерой». А работать он начал с того, что вспомнил, как однажды летом видел ее в купальнике, о чем никогда ей не говорил; он то начинал, то бросал, боясь, что этот образ будет преследовать его всю жизнь. Теперь же, глядя на статую, он понял, что просчитался, когда вздумал изменить первоначальному замыслу, решив привнести новые черты в скульптурные изображения Венер, ваявшиеся столетиями, когда замыслил отобразить в облике богини любви извечную борьбу между мужским и женским началом. Он думал о Венере, чья красота будет возвеличена благодаря силе и решимости, запечатленным в пылающих глазах Майры, благодаря волнующему изгибу ее шеи и напряженной манере держать руку. И в этом образе ему удастся воплотить внутренний конфликт современной женщины, оказавшейся под перекрестным огнем своих душевных терзаний.
Теперь ему стало ясно: он был неудовлетворен своей работой и все никак не мог ее закончить потому, что Карен для этого не годилась. Она была довольно красива, но красота ее казалась слишком романтической, чувственной, материнской.
Он познакомился с Карен на одной из сходок, организованных Майрой в их огромном семейном доме Брэдли, – они строчили какие-то письма и рассовывали их по конвертам, – и, хотя она никогда не подтрунивала над занятиями Майры (и даже иногда помогала ей, когда надо было рисовать плакаты или распространять рекламные листки), она же никогда к ним по-настоящему и не приобщалась. Она занималась современным танцем и посещала курсы по актерскому мастерству и однажды, когда он стал ее расспрашивать, растолковала ему, что выступать на сцене ей куда больше по душе, чем стоять в пикетах. Барни обращал мало внимания на Карен, пока Майра не произвела фурор в городе Элджин: сбежала со средних лет старшим преподавателем социологии (в Южную Калифорнию, чтобы помочь организовать союз рабочих-мигрантов и мексиканских собирателей фруктов), оставив своих почитателей в недоумении – куда же подевалась их богиня.
После бегства Майры Карен расцвела, стала привлекательнее и желаннее. Он начал восхищаться ее простодушным романтизмом, увидел в ней человека, нуждающегося в заботе и любви, а позднее, когда они поженились, он решил сделать ее натурщицей для своей более нежной и романтичной Венеры. К тому времени, когда они уже три года как были женаты, он не раз лепил ее тело, а вот с головой у него ничего не выходило, потому как он смутно понимал – та самая потаенная одухотворенность, что некогда пленяла его, теперь была ему помехой. И как он ни старался, а отобразить ее мечтательные глаза и пухлые, словно надутые от обиды губы ему все никак не удавалось. Она по-своему была такая же непостижимая, как Майра.
Но этим утром во сне он увидел, что для того, чтобы завершить образ, нужно добавить к нему кое-что от Майры – соединить обеих сестер в одном целом. Работал он споро.
За окном светало, а ему был нужен по крайней мере час, чтобы закончить модель, прежде чем отправиться на работу в Центр. Он несколько месяцев не прикасался к Венере всерьез – и сейчас пребывал в сильнейшем возбуждении, нипочем не желая останавливаться. Даже мало-мальская подвижка в осуществлении задуманного облегчит ему днем работу с глиняными моделями автомобилей.
Он рьяно взялся менять выражение лица: всего лишь мельчайшая складочка – и вот уже Майра исполнена нетерпения; подбородок тверже – чтобы как у мальчишки; в глазах – тревожное ожидание. В другой раз надо будет изменить жест руки: правую ладонь повернуть вверх, пальцы – согнуть так, будто они держат цветок. Но даже когда он еще только замыслил это, ему стало ясно, что Карен все поймет, – узнает и выражение лица, и жест руки и непременно огорчится. Он остановился, не отрывая руки от скользкой глины. Не нужно решаться прямо сейчас. Надо будет вернуться потом и взглянуть еще разок; или – что даже лучше – попросить Карен немного попозировать, чтобы она все видела в медленном развитии и привыкла к новому образу. А он поглядит, заметит она что-нибудь или нет. Если да – они все обсудят. Он снова смочил покрывало, набросил его на статую, прикрыл ванну с глиной и выключил весь свет.
Завтрак он приготовит себе сам, а она пусть поспит. Поработать утром было здорово, но она, наверное, обо всем догадается и будет расспрашивать. Уж больно она смышленая – и порой могла сказать не только все, о чем он думает, но и о чем он еще даже не успел подумать, вот и сейчас она наверняка поймет – здесь что-то не так.
Про кавардак на кухне он уже и думать забыл – и теперь вот почувствовал, что закипает от злости. Но он все же взял себя в руки и принялся рыться в посудомойке в поисках крышки от электрокофеварки. Тут он смекнул, отчего в раковине громоздилось столько посуды: посудомойка тоже была забита битком. Кто, как не Карен, заполнил ее под завязку и забыл включить?
Крышку от капельной кофеварки он обнаружил на полке для посуды, над сушилкой, и поставил кипятить воду. Но, попытавшись потом откопать чашку с блюдцем, грохнул в раковину стакан, и тот разбился вдребезги.
– Ну и черт с ним! – пробурчал он и расколотил следом чашку с блюдцем.
В полудреме Карен почувствовала, как он встал с постели и спустился вниз. Она с трудом размежила глаза. Кругом полумрак. Почему он поднялся в такую рань? Ночью он не раз будил ее, постоянно метаясь и переворачиваясь с боку на бок, – что-то его тревожило. Она смутно подумала – может, встать и приготовить ему завтрак, подняла голову и посмотрела на часы. Только десять минут шестого. Она гипнотизировала взглядом неугомонную секундную стрелку, словно хотела усилием воли остановить ее, а заодно заставить и себя застыть в этом промежутке между сном и пробуждением. Какой ужас – засыпать и просыпаться по часам, не говоря уже о том, чтобы предаваться любви! Она снова откинулась на подушку и закрыла глаза. Рекомендация врача отправиться во второе свадебное путешествие и перестать надрываться была первым дельным советом, который она услышала за все время, пока продолжалась эта эпопея с зачатием.
Раньше она и представить себе не могла, что родить ребенка такая сложная задача. Когда начитаешься про всех этих незамужних матерей, вынужденных избавляться от собственных детей, и наслушаешься родительских предостережений, то после первого же своего сексуального опыта думаешь, что наверняка забеременеешь. Она улыбнулась, вспомнив, как однажды они с Майрой болтали перед сном в темной спальне, лежа в кроватях, как было заведено между ними, девочками девяти и одиннадцати лет, и в конце концов пришли к выводу, что дети рождаются от поцелуя, а потом они еще больше укрепились в этой мысли, после того как услышали в школе от одной не по годам развитой девчонки про глубокий поцелуй («душевный», как та сама его называла), и, хотя Майра заметила тогда, что это противно, Карен подумала – до чего же прекрасно, когда после слияния двух душ в поцелуе возникает жизнь. А через год Майра, понаслушавшись откровений одной девчонки постарше, проходившей курс полового воспитания, торжествующе заявила, что, помимо поцелуя, вроде как нужно еще лечь в постель с мужчиной, чтобы он пролил семя в то место, которым ты писаешь. Карен сперва стушевалась (смекнув разумом десятилетней девчушки, что все это ерунда, потому как, когда ты писаешь, все это из тебя вымывается), а Майре было даже противно думать, что их родители укладываются в постель и проделывают то, что всякие там нахальные девчонки называют «кувыркаться» и «трахаться»: это звучало до того омерзительно, что казалось Майре просто ужасным. Но позднее она пробовала пересказать Майре романы, где вычитала, что люди, предаваясь любви, возносятся до небес на крыльях безудержного восторга и страсти и что это, должно быть, замечательно, когда двое влюбленных даже не думают о том, что будет после глубокого поцелуя, потому что в это время они охвачены безумной страстью.
Она мечтала, что так будет и у них с Барни, когда увидела его впервые. Прежде она никогда не встречалась со скульпторами – и украдкой присматривалась к нему, когда он пришел с товарищами к ним домой на заседание возглавляемого Майрой комитета – «Старшие за поддержку студенческого движения». Высокий, с большими руками и длинными пальцами, с ниспадающими на шею вьющимися рыжеватыми волосами, со светло-голубыми, в коричневатых прожилках глазами и с белой гладкой, как у девчонки, кожей. Ее привлек тогда его встревоженный взгляд. Он был художником, одиноким и угрюмым, из бедной семьи, жившей в Хамтрамке[5 - Хамтрамк – город в штате Мичиган, США.], и она пыталась представить себе, какой он, когда остается один и создает свои восхитительные величественные скульптуры. Она никак не могла взять в толк, почему художник оказался в плену чар Майры, как какой-нибудь студент-социолог-политолог (такие ходили за нею толпой, как за Жанной д’Арк, объявившей войну обществу), и все же ей нравилось, что он застенчивее остальных. А когда они всей оравой заявлялись к ним домой сочинять письма, надписывать конверты или рисовать плакаты, она всегда держалась поближе к нему, думая, а что будет, если их глаза встретятся. Впрочем, она никогда не старалась привлечь его внимание. Едва ли это было возможно, пока он принадлежал Майре.
Так уж у нее с Майрой было заведено с детства. Она никогда не претендовала на потрепанные вещи Майры (даже на латаные-перелатаные платья, равно как и на изношенные или сломанные игрушки), пока не убеждалась, что Майре они и в самом деле уже ни к чему. Однажды она крепко усвоила ее пример (сколько ей тогда было – лет пять или шесть?) с Синди, писающей куклой, безрукой, со сколотым носом и ободранными волосами. Ей захотелось эту куклу, потому что та была несчастная и нелюбимая, а поскольку Майра больше не играла с ней, Карен стала нянчить ее, как собственную дочурку. И вот как-то раз, когда тетушка Люси, состоявшая в комитете по сбору рождественских подарков для сиротского приюта, заикнулась, что ей нужны куклы, Майра пошла в их детскую, притащила все свои куклы, вместе с Синди, и передала их для детей-сирот. Майрой все очень гордились, а Карен так расстроилась, что принялась умолять, чтобы ей оставили Синди. Ведь это же ее кровинка, родная дочка, – заверяла она всех. Ей обещали взамен другую куклу. А отец сказал: «Не будь такой эгоисткой. Лучше бери пример с Майры», – и ей стало до того совестно, что она даже не пришла к обеду – спряталась в подвале и просидела там до тех пор, пока не пришло время ложиться спать. С тех пор она не притрагивалась ни к чему такому, что принадлежало Майре.
Так что в глубине души она обрадовалась, когда Майра сбежала со своим преподавателем. Она не забыла выражение лица Барни, когда как-то утром повстречалась с ним в студенческом городке и он спросил, правда ли это. Когда она ответила, что так оно и есть, он с на удивление глупой миной признался: «А мы с ней назначили свидание три недели назад – собирались вечером в кино». Не смея показаться чересчур развязной, да еще перехватив его исполненный отчаяния взгляд (хотя ей очень хотелось подтрунить над ним и сказать: вот и поделом тебе – не надо было назначать свидание загодя, да еще за три недели), она, однако, ничтоже сумняшеся, выпалила: «А почему бы тебе не пригласить меня вместо нее?»
Она до сих пор помнила его взгляд: он как будто видел ее в первый раз. Он ответил не сразу, и она почувствовала, как у нее заполыхали мочки ушей и лицо, – ей хотелось умереть. Но она рассмеялась и сказала: «Я просто пошутила», – и со слезами на глазах убежала в свой театральный класс.
В тот же вечер он позвонил ей и извинился. Сказал, что не хотел показаться грубым. Ну конечно же, он с удовольствием сводил бы ее в кино. Ей очень хотелось сказать, что у нее уже назначена встреча, и отложить свидание с ним на неделю, но она боялась начинать их знакомство с обмана и в глубине души ужаснулась при мысли о том, что за это время его у нее уведут. Несколько раз, пока шло кино, она краем глаза замечала, что он поглядывает на нее, и тогда поняла: раз нет Майры, значит, рано или поздно он переключится на нее.
Она слышала, как он мечется по кухне, громыхает ящиками стола и стенного шкафа. Какого черта он там ищет в такое время? Она снова открыла глаза – посмотреть, который час. Четверть седьмого. Спускаться вниз и готовить завтрак еще рановато. А надо бы встать и прибраться на кухне. Он там сейчас, наверное, злится, глядя на ворох посуды в раковине. Однако ее тело не проявляло ни малейшей охоты вставать с постели. В такую ранищу. Она смотрела, как секундная стрелка пожирает время. Странно: когда спишь, время для тебя как будто останавливается, а для всех остальных – и для него, чего бы он там ни делал на кухне и о чем бы ни думал – идет себе и идет, проходя мимо тебя украдкой и оставляя в прошлом. Подлая все-таки штука – время.
Она взглянула на фертильные часы – и поморщилась. По крайней мере, она знала – о том, что у них произошло на третьем свидании, они и не помышляли и ни к чему такому не готовились. Все случилось самопроизвольно – без оглядки на будущее. Ту восхитительную ночь она потом вспоминала сотни раз и втайне воскрешала в памяти последние три месяца, когда они предавались любви с учетом дней, выверенных по фертильным часам. Она немного послушала, как он громыхает там внизу, на кухне, потом перевернулась на живот и обхватила руками подушку. Все случилось после того, как они сбежали с одной скучной вечеринки и он проводил ее до дома, – тогда она, недолго думая, возьми и скажи: «Зайдем вместе. Предки вернутся не скоро». Она повела его наверх – показать комнату, где они жили на пару с Майрой. Там он ее поцеловал – сперва робко, потом страстно, ласково касаясь ее рук, лица, грудей, так, словно лепил ее плоть, а затем – ведь ей самой того хотелось – уложил ее спиной на постель и стал раздевать. «Только не здесь, – прошептала она, испугавшись собственного голоса. – Это кровать Майры».
Он посмотрел на нее, на мгновение смутился, потом перенес на ее кровать, бережно опустил и выключил свет. Со своей одеждой он замешкался – прошла, кажется, целая вечность, прежде чем он разделся и подошел к ней, а когда наконец лег в постель, его трясло от возбуждения, он сделался грубым, и она, не сдержавшись, заплакала от боли. Поняв, что она девственница, он вдруг стал сама нежность, будто хотел извиниться за то, что был не очень ласков; он мягко обхватил ее своими мускулистыми руками и сказал, что любит. А когда он уснул, прижимая ее голову к своему плечу, она подумала: ну вот, теперь он мой.
Проснулись они от шума: скрипнула наружная входная дверь – вернулись ее родители. Барни вскочил с постели, но она поднесла палец к губам. Они так и лежали, тише воды ниже травы, а когда в доме снова все смолкло, он оделся, тихонько спустился и ушел через заднюю дверь. Через несколько мгновений она услыхала, как в ее окно ударил камушек. Он стоял в лунном свете и посылал ей воздушные поцелуи. Увидев это, она разревелась от счастья – и почти всю ночь пролежала не сомкнув глаз, и все думала: ну вот, теперь его семя проникло в нее, чтобы создать новую жизнь. Она лежала, не шелохнувшись, боясь пошевелиться, и все шептала: уж теперь-то их никто не разлучит.
Какой же наивной она тогда была. Все оказалось не так-то просто. По крайней мере, для нее. Она посмотрела на часы: семь пятнадцать. В окошечке виднелась цифра восемь – красная. Ей хотелось ребенка больше всего на свете, только очень смущало, что предаваться любви приходится в соответствии с клиническими предписаниями – по расписанию. Такая научно запрограммированная связь, напоминающая точно выверенную систему размножения сельскохозяйственных животных, каких-нибудь лошадей или лабораторных зверушек, – это уж чересчур. Майра, может, с этим бы и смирилась. Майра, может, и прониклась бы духом времени, ходила бы по библиотекам и медицинским лекциям, чтобы узнать о последних достижениях в области гинекологии, – и, в конце концов, охотно поучаствовала бы в программе по регулированию рождаемости и планированию материнства. Так вот, она не Майра и ни за что не хотела бы стать такой, как она. И будь что будет.
Быть может, все уже случилось: ведь она так этого хотела тогда, ночью, на озере Торч[6 - Озеро в штате Мичиган.], в романтической хижине на самом берегу, – но, когда она призналась Барни, что у нее такое чувство, будто она беременна, он принялся растолковывать ей, как маленькой девочке, что такое нельзя почувствовать. Так почему же теперь при мысли об этом у нее на глаза наворачиваются слезы?
Она услышала, как что-то разбилось, – не то стакан, не то тарелка, а потом еще что-то – и села. Что он там вытворяет? Она протерла глаза и встала с постели. При мысли о том, что надо спускаться на кухню, ей стало дурно, но она совладала с собой. Он опять будет насмехаться над ее «психосоматическими симптомами», как сам это называл. Они бывали у нее и раньше. Но ей удавалось их контролировать. Она нацепила халат, тапочки и направилась вниз – приготовить ему завтрак и проводить на работу. Меньше всего ей хотелось бы нынешним утром ссориться.
* * *
Барни уже натягивал куртку, когда услыхал, как Карен спускается вниз. Она остановилась у входа на кухню, откинула назад прядь черных волос, зевнула и, гоня прочь сон, потянулась спиной и руками, но он не преминул заметить, что она опять плакала.
– Прости! Совсем вылетело из головы, что тебе сегодня на работу, – сказала она. – Вот и проспала. – Она глянула на раковину и стол. – О, Барни, я думала навести тут порядок вчера, когда вернулась. Ладно, давай пока сделаю тебе растворимого кофе.
– Нет времени ждать. Надо еще захватить Макса. К тому же кофе у нас не осталось ни грамма.
– Это займет всего лишь минуту, – настаивала она на своем, снова ставя кипятить воду. – Надо же тебе перехватить хоть что-нибудь.
Он собрался было уходить, но спохватился. Он вел себя с ней грубовато на днях: в последний понедельник – потому что она не могла найти ключи от своей машины, а во время вчерашней ссоры из-за потери кредитной карты для покупок в универсаме она и вовсе ударилась в слезы. Довольно ее допекать. Она и правда старалась как лучше, но попробуй враз изменить закоренелые привычки. Он с изумлением наблюдал, как она достает из-за хлебницы банку с растворимым кофе.
– Ладно, только сок и кофе.
– Я не хотела тебя будить вчера ночью, когда пришла, – сказала она. – Понятия не имела, что уже так поздно.
– Был второй час. Так вы на чем-нибудь сошлись?
Она поставила перед ним чашку с кофе и полезла в холодильник за соком.
– Может, поджарить тебе омлет или гренок?
– Нет времени, да и есть, правда, не хочется.
– Что ж, – проговорила она с плохо скрываемым вздохом облегчения, – сошлись мы предварительно на Гедде Габлер[7 - Героиня одноименной пьесы норвежского драматурга Генрика Юхана Ибсена (1828–1906), написанной в 1890 году.].
– И ты будешь играть Гедду Габлер?
– Что ты имеешь в виду?
Он допил кофе, потом она налила ему сока, и, хотя он сто раз говорил ей, что терпеть не может неподслащенный грейпфрутовый сок, пришлось его выпить.
– Почему бы мне не сыграть Гедду Габлер?
– Я имел в виду, зачем снова браться за Ибсена?
– Думаешь, не потяну? Все говорили, что я была хороша в «Кукольном доме»[8 - Драма Генрика Ибсена, написанная в 1879 году.] прошлым летом. Да ты и сам говорил.
– Роль Норы тебе подходила.
Она нахмурилась, плотнее закуталась в халат и огляделась кругом.
– Ясно, – дрожащим голосом проронила она. – Ты, наверно, прав.
– Я не это хотел сказать. – Впрочем, он понимал, что сказал уже слишком много.



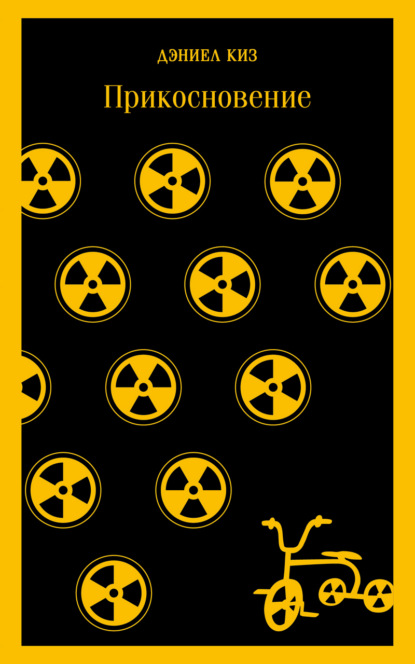




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0