Как странно сознавать это, оставшись наедине с собой, вглядываясь в молочную пелену и ожидая – чего? Наверное, нежданного протяжного свиста, от которого мурашки по коже, и подрагивание пальцев, сведенных волнением. После нескольких секунд ожидания я снова увижу знакомые лица, и среди них одно, капитана, указывающего мне путь к возвращению.
Все как всегда, как и прежние два раза. Наверное, только об этом я и мечтаю сейчас. Не вспоминая о прошедшем, не задумываясь о будущем, просто лежу на прелой соломе сарая и всматриваюсь стеклянными от напряжения глазами в никуда, в туман, объявший мир предо мной.
Моя стрелковая подготовка – мое любительство пребывать в тире во дни до войны. Все просто, я выбивал мишени, я брал призы и дарил их той, что была рядом, очень часто рядом со мной, когда я стрелял, наклонялась к моему плечу и шептала слова, после которых я не мог не попасть. Милые, пустяшные слова – сколько, должно быть, их слышало людей до меня, услышит после; и всякий раз они будут новы и свежи, и всякий раз будут волновать кровь. И заставлять юношу, с румянцем волнения на всю щеку, кивать едва заметно и тихо тянуть на себя кончиком указательного пальца спусковой крючок старой пневматической винтовки со сбитой мушкой, целясь, не смотря на цель, но чувствуя ее подсознательно, ощущая на линии огня. И только ощутив это единение, сильнее давить на податливый крючок в ожидании отдачи.
Она целовала меня, ведь мы были одни в тире в столь поздний час, если не считать старика хозяина. Он хмыкал, отворачивался, а затем, когда волнение проходила и душная волна спадала, спрашивал, не угодно ли молодому человеку показать себя еще? Я смущался больше, неловко кивал, она же, напротив, смеялась серебряным колокольчиком, и льнула ко мне, не обращая внимание на взгляды, обращенные – нет, не к ней, скорее, в прошлое, далекое прошлое. Ведь у каждого даже самого одинокого человека есть свое прошлое, в котором найдется место подобной сцене, схожей истории, за которую ему и по сей день волнительно на сердце.
После тира мы возвращались по домам уже заполночь. Я провожал ее до подъезда и долго стоял, в ожидании огонька в окне. И едва только огонек зажигался, уходил, тихо, незаметно уходил. Она не знала об этом.
Это был мой секрет, моя тайна, которую моя девушка никогда не должна была узнать.
Сейчас я снова вспоминаю ее, здесь в прохладном сарае, заполненном влажным воздухом сгустившегося тумана. Она написала мне дважды, я трижды ответил ей – и теперь жду письма. Почта работает плохо, письма идут медленно, но все же находят адресата.
У них ничего не изменилось, почти ничего, если не считать тира, где разложены мелкокалиберные винтовки и тренируется молодежь в подавляющем большинстве, только вступившая в призывной возраст. Странно думать о них, неизвестных, как о грядущих сослуживцах. Странно встречать пополнение – волей-неволей я переносился на несколько месяцев назад, в день покидания Свияты. Нет, бомбежек города больше не было, раз только прилетали самолеты, но огнем подвезенных зениток и спаренных пулеметов – теперь весь город ощетинился ими – удалось отогнать, сперва разведчика, а потом и штурмовую группу. Наши самолеты в небе не появлялись, авиация вся нужна фронту, посему надежда именно на скорострельные зенитные установки, заложенные мешками с песком и на перемещающиеся патрульные машины, на чьих бортах установлены крупнокалиберные пулеметы. Это против разведчиков, броня остальных самолетов не позволит нанести им хоть какой-то урон.
Ах, да, еще ввели режим светомаскировки. И подорожали продукты. Но ведь так и положено, мы с тобой читали об этом в книгах, писала она. Во время любой войны всегда происходит так.
Я откладываю винтовку и снова оборачиваюсь. Ничего, тихо. Крысы внизу угомонились. Я вслушиваюсь. И выдохнув, снова смотрю в окно. Пролетела птица, скользнув крылом по крыше сарая. Тихие звуки пугают больше, нежели громогласные, и в этом ничего странного. Ведь я тоже стараюсь не шуметь.
Солнце поднимается все выше, туман начинает редеть. Тучи поднимаются. Я смотрю на время – да, комендантские прошли другой стороной. Мне осталось, скорее всего, только дождаться своих.
Шорох теперь доносится из окна. Я вздрагиваю. Птица, сидевшая на ели метрах в пятидесяти впереди, поднимается, отряхивая с ветви поток капель, и тяжело летит прочь, быстро скрываясь в тумане. Я беру винтовку и смотрю на мир в перекрестье оптического прицела.
Теперь мир совершенно иной, нежели мгновение назад. Оптика сужает обзор и отчетливо выделяет предметы, доселе скрытые пеленой тумана.
Там, под елью, с которой слетела беспокойная птица, проходит покосившийся забор заброшенной усадьбы, в которой нашей группе надлежит установить несколько взрывных устройств, а прямо перед забором – узкая тропка, ведущая из ниоткуда и соединяющаяся вскоре с той, которой пошли мои товарищи. Сама усадьба – трехэтажный особняк постройки прошлого века только сейчас выплывает из тумана, освобождаясь полностью. Наших не видно, сколько я ни вглядывался: ни единого движения. Едва виден только фронтон со сбитым гербом поместья, да сам портик. Меж тонкими ионическими колоннами видны узкие окна, от пола до потолка, они частью выбиты, частью заклеены накрест полосками бумаги. Или забиты фанерой. Усадьба давно потеряла владельца и теперь доживает свой век в одиночестве. Единственное ее назначение – служить неприметным складом боеприпасов для того самого решительного рывка на нашем участке. Часть задания группы заключается в том, чтобы определить, что происходит в усадьбе, если еще что-то происходит, ликвидировать ее.
Странный она имеет вид в перекрестье оптического прицела. Впрочем, теперь она находится на вражеской территории. Как-то непривычно думать об этом. Ведь многие из моего полка бывали здесь раньше, кто-то отмечал у разоренного дворянского гнезда выпускной вечер, кто-то просто приезжал на шашлыки. А теперь к усадьбе можно подобраться, лишь хорошо вооружившись, быстрыми перебежками. Кто мог предположить, даже три месяца назад, что эти земли, эта территория, всегда считавшаяся….
Шорох. Я опускаю прицел ниже.
Покачивающиеся листья крапивы, заблиставшие крупными каплями мороси Среди дымной завесы – словно прочерчен зеленый след. Спешно перевожу прицел чуть ниже по тропке, туда, где она вливается в другую, по которой ушел отряд, в сторону усадьбы.
Фигура в сером столь стремительно попадает в перекрестье, что я невольно отшатываюсь. Слишком близко. Кажется, протяни руку, коснешься. Никогда прежде, я не видел так близко человека, который считается неприятелем. И верно потому так странно ощущать его врагом.
Это с непривычки, говорил мне майор. Я знаю, что с непривычки. Что война все расставит по местам. Но никак не могу навести сызнова прицел на только что промелькнувшего в его перекрестье человека в серой гимнастерке. Потому что это может означать только одно.
Я снова вглядываюсь в прицел – но в нем уже две фигуры. Другие. Это не солдаты комендатуры, в чьи обязанности входит проверка паспортного режима. Оба идущих в маскировочных комбинезонах, винтовки за плечами качаются в такт шагам. Один закрыл лицо капюшоном, его компаньон обнажил голову, подставив влаге, сочащейся из воздуха. Сейчас он медленным движением руки вытирает лицо манжетой. И оборачивается к товарищу: что-то ему говорит. Тот отвечает тем же шепотом. Я не слышу ни звука, сколь не напрягаю слух.
И вспомнив о человеке в гимнастерке, немедленно поднимаю голову, отрываясь от оптического прицела.
Первый – в сером – идет метрах в пяти впереди, не то показывая дорогу, не то незаметно для себя уйдя вперед. Снова прицел. Лычки на вороте гимнастерки говорят, что передо мной лейтенант, сопровождающий группу. Посланную не то на самостоятельное задание в нашем тылу, не то на перехват тех, кто пытается выполнить свою миссию на их земле.
Автомат болтается на груди, чуть прикрытый правой рукой. Лямка перекинута через шею. На поясе, пистолет, две противопехотные гранаты, на длинной деревянной ручке. Такие же гранаты, только в количестве четырех штук, висят на поясах разведгруппы, комбинезоны задевают за кусты репейника, цепляются за оружие, будто предупреждают.
Я снова отрываюсь от окуляра. Веко болит чуть-чуть, должно быть, я слишком сильно надавил, всматриваясь в проходящих тропинкой солдат.
Надо стрелять. Неприятная мысль коробит, царапает мозг, колючими своими коготками. Это тоже пройдет, привыкнешь, говорил мне майор, разглядывая мои упражнения на мишенях. Ростовые мишени тоже изображали людей, пускай и достаточно схематично. Будешь сравнивать их с реальными, привыкнешь еще быстрее, добавлял Стеклов.
Тем более, реальные солдаты, даже если они того не ведают, устремляются вслед за нашей группой. Волей-неволей, но они пересекутся. Быстрый взгляд на часы – наши могут возвращаться с задания. Единственный способ предупредить, упредить почти неизбежное столкновение – сам дозорный.
Их немного, всего трое. Может начаться бой, линия фронта рядом, значит, тревога будет через несколько минут.
Прицел дрожит, когда я начинаю выбирать цель. Странно, что я не могу определиться с тем, на кого направить ствол снайперской винтовки. Мгновения убегают, надо решать.
Надо решать. Тропинка заворачивает за сарай, скрывается за елями. Оттуда я уже не достану ни одного. Офицеру до крайней черты остается пройти всего ничего. Четыре метра. Нет уже три.
Значит, его. Остальные упадут, немедленно залягут, у меня будет немного времени на второй выстрел. Прежде чем они определяться с направлением, прежде, чем вычислят траекторию полета пули. И тогда уже надо отходить. Одному. А там, как карта ляжет. Так я и предупрежу своих, и возможно, смогу отступить к реке. Сейчас Сморода разлилась от долгих, затяжных дождей, проходы к ней затоплены, переправляться придется вплавь. А за ней свои. Близ железной дороги. Крюк в два километра, не факт, что в своих скитаниях я встречу группу, но иначе….
Иначе, я упущу лейтенанта. Мысль, прежде мягко царапавшая, а ныне вонзившаяся в мозг, заставляет снова выцеливать серую фигуру. Лицо крупным планом – лейтенанту около двадцати, чуть моложе меня. Но выглядит серьезней, лицо спокойное, под этим спокойствием в застывших чертах, сжатых в нитку губах, угадывается сильное нервное напряжение, выпрямляющее спину и не дающее лейтенанту оглядываться. Наверное, поэтому он оказался так далеко впереди.
Возможно, он в первый раз ведет за собой маленький отряд.
Его лицо намертво удерживается в перекрестье прицела. Лейтенант шагает ровно, не спеша, каким-то деревянным шагом – и все же вырывается вперед; двое других идут спокойно, на своего старшего почти не смотрят. Сейчас их волнует бесшумный разговор, обмен мнениями, возможно, о предстоящей работе.
Я снова отбрасываю мысли, сосредотачиваясь на фигуре в сером. Лейтенант подошел почти вплотную к невидимой для него границе безопасности, палец сам скользит по крючку, вдавливая его с ненужной силой.
Винтовка бьет в плечо, кажется, невероятно сильно. В последнее мгновение прицел чуть вздрагивает в непослушных руках, но пуля уже вышла из ствола, пороховые газы уже разогнали ее до скорости в полтысячи километров в час и теперь она стремительно поглощает расстояние между мушкой и головой лейтенанта, пожирает метры, пробивая душный застывший воздух, наполненный влагой.
Я ничего не почувствовал во время выстрела, только невиданную прежде сосредоточенность. Выцеливаясь, еще ощущал скребущие коготки мыслей, а сейчас…. Словно включилось что-то.
Миг – и лицо лейтенанта нервно дергается, он стремительно повертывает голову, словно чем-то заинтересовавшись, там за развалившимся забором усадьбы. И начинает поворачиваться всем телом, послушно следуя за новым направлением взгляда. Когда он падает в крапиву, я еще вижу кровавый след на виске. И другой, несравнимо больший, просто чудовищный по размеру, разнесший полголовы – выходного отверстия. А торопливо перевожу взгляд вверх по тропке. В спешке отрываясь от прицела
Двое, следовавших за ним, уже успели обернуться по сторонам и теперь падают. Один чуть задержался, срывая винтовку с плеча. Почти такую же как мою, ему надобно снять ее с предохранителя, передернуть затвор, у него всего несколько секунд подготовку оружия. И еще ему кажется, что стреляли со стороны елей, возможно, из сарая.
Второй просто лег на тропу, и только сейчас шевелится, срывая с плеча оружие, поводя им из стороны в сторону. Снайпер начинает выискивать цель, он по-прежнему стоит на колене, не опускаясь, в глухую зелень, будто нарочно подставляясь под пулю. Мне с трудом видно его, второй полностью скрыт зеленью. Горячий шепот, он говорит снайперу что-то о засаде, я слышу их голоса и понимаю их речь. Язык слишком знаком, его не надо учить в школе, он родственен нашему. Второй спорит, и проигрывает спор молчанию. Снайпер по-прежнему зорко всматривается в ели, в черноту окон сарая. И не опускается. Из высокой травы невозможно уязвить цель, а он хочет именно этого. Он не глядит в окуляр, он ищет глазами, ищет, чувствуя, что вскорости может найти.
Я лежу неподвижно. Я допустил ошибку, я вздрогнул, поднимая глаза от прицела, выискивая разведгруппу, пошевелился. И теперь любое мое движение способно выдать меня. Кажется, снайпер понял это, возможно, он краем глаза увидел мгновение выстрела, озарившейся ярким светом зачерненный ствол винтовки или проблеск оптики в пронизывающем туман солнце и теперь выискивает его. Ждет, когда я снова пошевелюсь, чтобы вычислить среди ветвей и прели человеческую одежду; ждет, когда я поймаю его в перекрестье прицела. И тогда опередит.
Мгновения тянутся бесконечно. Сколько их минуло с тех пор, как лейтенант неловко упал в крапиву? Кажется, протянулась вечность немого противостояния.
А наша группа, услышала ли она одиночный винтовочный выстрел?
Под моим сапогом нащупывается кольцо открытого люка. Я задеваю его раз, другой; металл звенит. В то же мгновение следует выстрел. Яркая вспышка и звон разбитого стекла. И примерно полсекунды на мой ответ, пока он дошлет новый патрон в ствол винтовки. Я приникаю к окуляру – и только теперь понимаю, что снайпер не промахнулся. Но прежде чем осознаю это, успеваю нажать на крючок.
Пули тяжелы, ах, как тяжелы эти пули. И как страшны. Свинец, с высверленным в центре отверстием, заполненным ртутью. При соударении с костью, пуля разбивается на десяток мелких тяжелых шариков, разлетаясь по телу, сокрушая и перемалывая все, встреченное на пути, превращая в пульпу, в никчемную смесь крови и ошметков. И дробью выбрасывается наружу.
У меня осталось еще три таких пули. Возможно, увидев действие первой, снайпер понял, что перед ним новичок и стал выискивать молодого волка, с тем, чтобы тот не превратился в матерого. Не стал бы соперником ему.
А теперь… голова снайпера взрывается словно гнилой арбуз: черно кровавое месиво разбрасывается по сторонам из затылка с каким-то омерзительным всхлипом. Орошает брызгами все вокруг, в том числе и лежащего рядом. Он вскрикивает непроизвольно, последний, оставшийся в живых, и стреляет. Неважно куда, пуля впивается в стену сарая, он успевает откатиться прежде, чем безжизненное тело товарища с изуродованной до невозможности до дикого отвращения головой, упадет на место, мгновением раньше занимаемое им.
Конечно, первым надо было стрелять именно в снайпера. Но я слишком боялся упустить лейтенанта….
Он передергивает затвор.
А я – только слышу, но уже не вижу его. Боль яростно впивается в бедро, подобная бешеной собаке, рвет и кусает плоть. Снайпер не промахнулся и последним в своей жизни выстрелом, попав именно туда, где, по его расчетам должен был находиться молодой стрелок, и не ошибившись, почти не ошибившись в цели. Он ориентировался на слух, не видя меня, предположив, что я отползаю от окна, и сумел достать.
Но боль затмевает мысли, вымывает их едкой своей пеленой, я едва могу сдержаться, чтобы не закричать. Бросив винтовку, позабыв об оставшемся в живых, корчусь в судорогах, истязаемый страхом и мукой. Простреленная нога почти не шевелится, я могу только шевелить пальцами. Брюки маскировочного костюма стремительно пропитываются кровью, кровь быстро наполняет пол чердака, течет в щели, неостановимо. мне кажется, я слышу, как падают тяжелые капли моей жизни вниз, на пол, приводя в шок здешних обитателей. Или в восторг, я не могу знать.



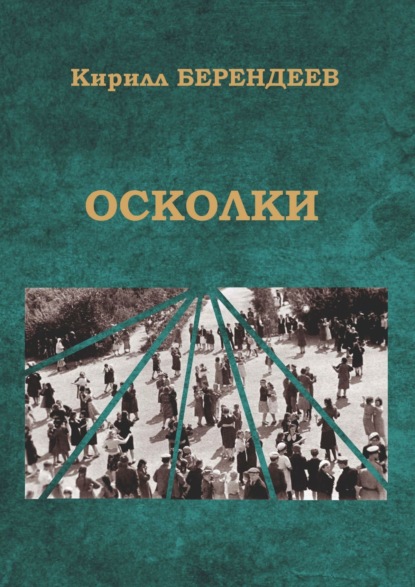




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0