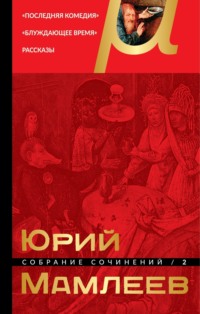
Собрание сочинений. Том 2. Последняя комедия. Блуждающее время. Рассказы
– Что с тобой, милый, что с тобой? – шептала ему Тамара по ночам…
Но Илья медлил, страшась безумного открытия, несмотря на то, что он яростно желал облегчить душу, разделить горе, чуть параноидно надеясь, что, может быть, от этого боль № 2 будет стихать.
Вдруг Илье пришла в голову, как ему показалось, блестящая мысль.
«А что, если, – подумал он, – подать Тамаре естественную причину моей тоски; порок в ней самой; что я не могу отделаться от страшной памяти о нём… Таким путём я, скрыв за занавес жуткую, сверхъестественную причину отчуждения, всё же смогу разделить с Тамарой само чувство тоски и отчаяния… И, возможно, мне будет легче. Но какой недостаток, какой порок выбрать?!»
Илья долго думал над этим, отбрасывая те или иные варианты. Один не подходил из-за своей надуманности, другой – из-за своей ничтожности и смехотворности…
Однажды Илья, прокопавшись полдня в грязном белье, которое он хотел в прачечную отнести, радостно взвизгнул:
– Эврика, эврика!
«Я скажу ей, что она лишь формально верит в Бога, – решил он. – Значит, на самом деле не верит. В Бога великого, недоступного! Скажу, что это страшит, пугает меня, что я боюсь за будущее её души; что, наконец – при моей религиозности – это чудовищно отдаляет её от меня…»
Выбрав подходящий момент у себя дома, когда они были почти вдвоём – только Галя спряталась под кровать и заснула там на целые сутки – Илья начал своё жуткое, кровавое объяснения… Он внимательно следил за реакцией Тамары. Сначала Тамара была немного поражена и шокирована такой странной и абстрактной причиной. Откровенно говоря, она ожидала – и боялась этого больше всего – что тут замешана другая женщина. Однако потом она вдруг осознала значимость этой причины и глубоко оскорбилась – прямо застыла в слезах – от такого грубого недоверия к её душе.
Поначалу Илья действительно не скупился на выражения, называя её даже тупой по отношению к бессмертию, но, видя её отчаянный, немой протест, судорожно стал напирать на свои нервы, на смещение каких-то пунктов, на повышенную, патологическую требовательность к ней.
Она поняла одно: он глубоко страдает. Но причина, как ей казалось, внутри души, была поправима: не то что самое страшное – любовь к другой; ведь Тамара считала, что верит в Бога. Она бросилась изо всех сил утешать и убеждать Илью. Прошёл час. Пока Илья, ощутив искру надежды в душе, лежал на диване, бросив тело в пустоту, Тамара, бродя по коридору и комнате, болезненно искала дефективность своей долгой, ещё с детских, ясных времён, веры и любви к Богу. «Как всё же он чувствителен и глубок, мой Илья, – металась она. – Действительно, мучительно жить с человеком, который духовно трупен… Но всё же я не такая, не такая… У меня есть свои слабости, но неужели всё то, что я чувствую, веря в Бога, не существует?»
– Атеистка, атеистка! – визжал ей вслед Илья, отчаянно стремясь подбодрить себя и этим криком заглушить истинную причину: боль № 2.
От ретивости ему даже стало казаться, что Тамара и взаправду атеистка.
Разыгралась безобразная, нелепая сцена. Даже Галя проснулась у себя под кроватью и завыла… Илья так подпрыгивал, так неистовствовал, внутренним криком своего сознания стараясь как бы убежать от боли № 2, что Тамара совсем разрыдалась.
Когда всё угомонилось и звёзды начали улыбаться им в окна, Тамара робко подошла к Илье и, погладив его, сказала:
– Пойдём в церковь… Я буду молиться. Там нам будет легче; ты увидишь, что я искренне верю, и всё пройдёт.
Поцеловавшись, они с разными, но жаркими надеждами пошли в храм.
В этот вечер начинался праздник, внутри церкви было светло, как будто от ликов восходило солнце, и раздавался колокольный, тайный, как плач Бога, звон.
Тамара сразу настроилась на возвышенное, и слёзы текли по её лицу. Илья сначала тупо стоял около неё. Одна интеллигентная старушка, стоящая рядом, вдруг рухнула наземь в молитве и поклоне. Рукой она коснулась пола. Это так разозлило Илью, что он чуть-чуть поддел её ногой. По чистоте своей старушка, правда, в это не поверила.
Между тем служба текла своим чередом. Звон кругом стоял, благолепие. А Илюша только смрадно наблюдал, коснулся ли кто пола.
Наконец Тамара, облегчив свою душу, каждым движением, порывом молчаливо обращалась к Илье. «Ты видишь, я верую, верую, верую!» – она уже прямо, безмолвно и отчаянно смотрела на него.
– Нет, не веришь, голубушка, – трупно шевелился Илья в своей душе, пристально глядя на Тамару. – Нет, не веруешь… Явное дело – хитришь… Не веришь, и всё.
Глаза Тамары наполнились слезами от сухого блеска глаз Ильи. Так прошло ещё полчаса. Тамара умоляюще, но с укором смотрела на Илью.
«Да не вера мне твоя нужна, дура, – вдруг нервно взвизгнул он про себя. – Не вера… Снять боль № 2… Перенести на другое… Поэтому мне надо, наоборот, твоё отчаяние, а не вера…»
…Тамара пробивалась к выходу. Илья шёл значительно впереди.
И вдруг он захохотал, прямо в лицо верующим, патологическим таким, не потусторонним небесно, а потусторонним с другой, чёрной стороны жизни, хохотом… Никто из верующих даже не поверил в этот хохот… А он, содрогаясь, так и пошёл с ним, с этим хохотом, на улицу из церкви…
Когда Тамара подошла к нему, он уже успокоился, и вид у него был чуть благостный.
– Мне легче, дорогая, – сказал он. – Будь со мной… Будь со мной… Не всё ещё прошло… Помоги развеять тоску.
– Что ты, всё будет в порядке, просто у тебя расшатались нервы, – успокаивала его Тамара, прижимаясь к нему. – Я с тобой, и мы оба верим в Бога…
Эта странная, смещающаяся игра продолжалась ещё два дня. Тамара была с ним особенно ласкова, делила грусть; Илья пытался увериться в том, что она атеистка, и закопаться таким образом в своих мыслях о её атеизме, но как он ни старался заглушить боль № 2, она давала себя знать резкими и внезапными ударами. Он хотел не обращать внимания, уверяя себя, что всё идёт хорошо, но на третий день боль № 2 уже плыла по его душе, как огненный шар по пространству. Все ухищрения были уничтожены. Однажды днём Илья сидел с Тамарой за обеденным столом. Вдруг всё его сознание охватила мысль о том, что даже и будь Тамара самой чёрной, пакостной атеисткой, он всё равно любил бы её, любил судорожно, ничуть не меньше; а вот теперь, когда она коснулась пола, он почти ненавидит её.
…Тамара ласково улыбалась ему: «всё идёт хорошо, туман рассеивается, ты видишь, я верю в Бога». Вдруг лицо Ильи исказилось. Никогда оно не было таким ужасным и патологическим. Он опрокинул чашку.
– Да не вера мне твоя нужна, дура! – заорал он, вскочив. – Не вера… И не Бог твой воображаемый… Дура!
Он заметался по комнате.
– А что же, Илья?! – в страхе залепетала Тамара.
– Хочешь скажу, хочешь?! – Илья приблизил своё горящее, трясущееся лицо к лицу Тамары; глаза его злобно, нечеловечьи блистали, а руки так и извивались на месте. – Хочешь?.. Я ненавижу тебя за то, что ты прикоснулась рукой к полу… Понимаешь?.. Я ненавижу тебя за то, что ты рукой коснулась пола! – и он потянулся, чтобы сдавить её.
Тамара упала на пол около его ног, обхватила их руками.
– Илюша, Илюша, что ты говоришь, – бормотала она в слезах. – Ты с ума сошёл, с ума сошёл… О чём, о каком поле ты говоришь?.. О какой руке?!!
Но Илья уже тряс её, ни на что не обращая внимания.
– Встань с пола, дура, – неистово кричал он, – не смей при мне касаться его руками!.. Идиотка, ты губишь нашу жизнь… Встань, встань же!..
Илья резко поднял её, так что Тамара вскрикнула от боли.
– Я запру тебя в шкаф, – вопил он. – Я запру тебя в шкаф, идиотка… Чтобы ты никогда, никогда не видела пола!
Вдруг он, чего-то не выдержав, как-то бессмертно, навзрыд разрыдался и упал в кресло…
А через некоторое время, придя в себя, они долго-долго разговаривали. Мёртвое солнечное небо, видное из окон, проплывало мимо их сознания. Иль подробно, шаг за шагом, рассказывал Тамаре о боли № 2, о всех своих мучениях, о психиатре, о церкви, обо всём, вплоть до последней сцены. Тамара была совершенно потрясена, но что-то в Илье заставляло её верить, что всё это действительность, а не клинический бред.
Окончательно её убедил подробный разговор со старым психиатром, который раньше обследовал Илью. Это была действительность, а не кошмарный сон. Но иногда странная нереальность происходящего вынуждала Тамару повторять Илье, что он всё выдумал, для того, чтобы уйти к другой женщине или просто скрыть то, что он разлюбил её и хочет жить один. Но Илья не уходил ни к себе, ни к другим женщинам, наоборот, он судорожно цеплялся за Тамару, и это окончательно обескураживало её, заставляя верить в странное, а происходящее. Потянулись невыразимые, и земные, и в то же время изнутри охваченные непонятно-нереальной силой, дни. Тамара всё время тревожно заглядывала в глаза Ильи: есть ли там боль № 2.
Она старалась всячески развеселить и отвлечь его: они носились по театрам, по концертам, по знакомым.
Тамара помогала ему и лаской, и в то же время старалась занять его ум чем-нибудь великим: они оба – она ради него – взялись за серьёзное изучение кантианства и всех его последствий.
В конце концов, она верила в то, что любая нелепость – пусть с большими усилиями – сожжет быть преодолена жизнью и любовью. А любила она Илью беззаветно. Поэтому Тамару не охватывала полная безнадёжность, когда временами, серди знакомых, среди шуток и танцев или на концерте, когда величественно звучала музыка Баха, глаза Ильи явственно наливались дикой, непонятной тоской и отвращением.
Однако нервная, неистребимая дрожь пробирала её, когда внезапно Илья отходил ото всех куда-нибудь в сторону, в уголок, чтобы его не видели…
Но всю серьёзность положения она поняла однажды, спустя несколько месяцев после объяснения, ранней весной, ночью, когда Илья, мучимый кошмарным сном про людей, коснувшихся пола, вдруг проснулся и завыл. В этот момент он почему-то напомнил ей Офелию.
– Я не могу больше так жить, – бормотал Илья. – Это продолжается каждый день… Сплошная пытка… Но я люблю тебя… Уедем, уедем отсюда…
– Куда? – в ужасе спросила Тамара.
– Туда, где нет полов, – и Илья остановил на ней тяжёлый взгляд.
Тамаре с дрожью показалось, что под «местом, где нет полов» Илья подразумевает что-то дикое и жуткое, возможно, тот свет или невыразимо потустороннее… В страхе она подумала, не предложил ли ей Илья повеситься вместе с ним. Но всё оказалось проще. Илья всего-навсего хотел уехать – хотя бы временно, на лето – в деревню и поселиться в избе, где нет пола… После того как Илья настаивал на этом в течение недели, Тамара согласилась.
Теперь уже она решалась на многое, на то, о чём раньше не могла и побредить. Закончив все свои социальные дела, супруги выехали в глушь, в поисках избы без пола… Место они облюбовали в краю, где стояли подтреснутые старинные церкви и монастыри.
Деревушка, в которой они поселились, как раз расположилась у подножия знаменитого полуразрушенного монастыря. Вся она так и тонула в беспредельности русской природы и в умиротворённости. Людей здесь уже почти не было, так что Садовниковы сначала вроде легко нашли не то избу, не то часть избы с полуразрушенным полом, так что оставалось доконать его собственными силами. Достав топор, супруги принялись за работу. Тамарочка особенно старалась и неистовствовала – что не сделаешь ради любви! Но тут как-то случаем их застукало пьяное, не то местное, не то иное начальство. Формально изба кому-то принадлежала – и разразился нелепый скандал. Кто кричал о притеснении религии, кто о расхищении соц. собственности на дрова. В конце концов, то ли напугавшись того, что Садовниковы из Москвы, то ли просто умилившись от трёх поллитр столичной водки, начальство угомонилось, но потребовало всё же с Садовниковых письменного объяснения с указанием – самое главное! – причин уничтожения пола.
Тамара сослалась на то, что они с Ильёй – «дикари». Пока шла вся эта суета вокруг вечных стен, Илье даже чуть полегчало с болью № 2.
Но, наконец, всё успокоилось, пол был уничтожен, и супруги зажили на земле, несмотря на то, что лето стояло достаточно сырое и дождливое.
Первое время они жили хорошо, хотя и сумрачно, и Илья, обрадованный некой тихостью и приглушённостью боли № 2, был в странном возбуждении. Ему казалось, что, словно пристыжённая всей этой обстановкой старины и покоя, боль № 2 стала какой-то благолепной и умиротворённой; Илья даже считал, что в ней появился религиозный дух. Но он был в возбуждении – потому что не знал, к чему всё это придёт – и страшно волновался за конечный исход.
Тамара плескалась в реке, думала о Боге и об остатках пола.
Всё выявилось и стало на место не каким-то днём, не каким-то часом, не каким-то событием, а невидимо и постепенно, по мере того как Илья убеждался, что боль № 2 нисколько не угасает; что она по-прежнему существует, вечно и неподвижно; что этой нелепой жизнью без пола нельзя уничтожить воспоминания о том, что Тамара всё-таки прикоснулась к нему; что всей этой своей беготнёй с гитарой по полям и лесам да по монастырям Божьим Илья лишь засуетил боль № 2, но никак не уничтожил её; что вот она по-прежнему стоит перед ним – невозмутимая и холодная, жестокая и неподвижная, как будто вся вселенная, и небо, и земля, прошли, как дым, перед её лицом.
И он не находил для себя ни покоя, ни выхода. Илья чувствовал, что ненавидит Тамару, что каждое прикосновение к ней – яд, потому что возникает мысль о прикосновении к полу. Боль № 2 зияла в его душе, как и раньше, когда он впервые почувствовал её…
Всё было вечно и неизменно по-прежнему. И Тамара с ужасом убеждалась в этом по блеску глаз Ильи, по его нервным, негативным движениям… Одно время Илья чуть стыдился пере природой, пред избой без пола, пред Тамарой за своё окончательное, жуткое поражение и самообманничал, но увидев, что Тамара поняла всё, поплыл по течению. У него не было больше сил сопротивляться.
Только злоба, страшная злоба охватила его. Он носился по лесным полянам, мимо простых и напоённых жизнью деревьев с одной мыслью: «Ненавижу, ненавижу!»
Сейчас он ненавидел не только людей, прикоснувшихся на его глазах к полу, но и всё остальное человечество – за то, что оно допустило боль № 2. «Негодяи, комедианты!» – думал он. Часто, присев на какой-то пенёк, окружённый лесными цветами, он вынашивал детски-фантастические планы мести человечеству.
«Удрать, удрать бы куда-нибудь подальше, где нет полов», – рассуждал он иной раз.
Даже пенёк, на котором он сидел, он ненавидел за то, что, может быть, около него бродили люди, прикоснувшиеся к полу (в этой деревушке он заметил уже двоих прикасателей). Он чувствовал, что впадает в полную прострацию, особенно по отношению к Тамаре. Илья по-прежнему любил её, но всё большее место занимала ненависть, правда, какая-то идиотская. Ему иногда хотелось воткнуть ей в задницу иголку или захохотать во время полового акта. Он еле сдерживался, но потом и это состояние пустил на самотёк. Однажды, когда Тамара, стараясь спасти его, любовно-измученно, со слезами, точно говоря: «ещё не всё потеряно, ещё усилие, усилие», смотрела на него, у Ильи возникло неудержимое желание ударить её по щеке. Он взвизгнул и выполнил это. Трудно было представить что-нибудь более отвратительное, жалкое и патологическое. Закрыв лицо руками, Тамара забилась в угол. «Не будешь прикасаться к полу», – злобно прошипел Илья…
Уже через несколько минут он горько, истерически раскаялся, и им обоим стало так страшно, что они, прижавшись друг к другу, замерли в углу, болезненно-радостно и безнадёжно поглаживая друг друга. Но вскоре у него снова появилось желание бить её… «Мы в заколдованном круге», – с ужасом думала Тамара. В отчаянье она решилась поить его водкой, надеясь, что алкоголь трансформирует боль № 2, но ничего подобного не случилось: в опьянении Илья стал ещё более дик и свиреп. Он даже гонялся с топором за соседскими курами, которые часто бродили по полу в одной хозяйской избе.
Положение усугублялось ещё и тем, что Тамара, вынужденная спать на голой земле, простудилась и серьёзно заболела. Надо было срочно ехать в Москву. Но Илья вдруг заупрямился. Он ни за что не хотел возвращаться в дом, где существуют полы.
«Дай мне хоть каплю свободы!» – брызжа слюной, вопил он на Тамару, валяющуюся на земле в лихорадочном забытьи.
Наконец – после долгих препирательств – они возвратились в Москву. В глубине души Илье уже всё было безразлично. В Москве его сестра Галя по-прежнему большую часть жизни спала под кроватью, мамаша обмусоливала уже не мужчин в троллейбусе, а какие-то тумбы, но всё это была реальная, земная жизнь. Илья находился вне этого.
Тамара долечивала свою простуду. В один прекрасный день Илья осознал, что он живёт, по существу, с трупом. Суть заключалась в том, что за какой-то месяц после возвращения Илья окончательно разлюбил Тамару. В конце концов, его толкнул на это инстинкт самосохранения: если любовь сопровождается такими мучениями, которые никакой волей нельзя устранить, то единственный способ избавиться от мучений – убить любовь. Илья медленно, но неумолимо и органически, всей своей изувеченной душой подходил к этому выводу. Он долго, отчаянно боролся за свою любовь, наверняка теперь последнюю, но больше не было сил.
«Можно ведь жить без любви, – мучительно думал Илья, – как я жил раньше, до Тамары… И боль № 2 достигла такого апогея только потому, что она действовала по отношению к любимой, к самой близкой… А на остальных наплевать… Не так уж страшно… Терпимо… Ведь жил же я раньше».
Это был приговор. Любовь была раздавлена, втоптана в грязь, как дохлая кошка. С этого момента всё пошло в геометрической прогрессии. Тамара стала для Ильи трупом. Он, правда, цинично хотел сохранить её около себя в качестве домашней хозяйки.
Тамара же сама была парализована обрушившимся горем, видела, что Илья не любит её, и тоже плыла по течению.
Иногда только Илья судорожно и цинично-ласково заглядывал в её теперь уже умершие для него глаза и, внутренне безумствуя, целовал их. У него даже пропала охота избивать её.
Но, странное дело, хотя главная причина мучений – столкновение боли № 2 и любви – исчезла, Илья по-прежнему находился в состоянии какого-то потустороннего страдания. Боль № 2 сама по себе теперь не волновала его. Но когда исчезло чисто личное, интимное страдание, – открылось бездонное, чистое небо объективного ужаса, и имя этому было: нелепость, непознаваемость и всемогущество боли № 2.
Как будто она была часть великой, скрытой и страшной для людей силы, таящейся вне сознания.
Илья даже нервно ловил себя на мысли о том, что боль № 2 будет действовать против него самого и он возненавидит и отречётся от себя, прикоснувшегося к полу…
Он вспомнил, что для того чтобы уничтожить боль № 2, он прибегал к помощи самых великих философских идей, которые когда-либо существовали на земле, – и всё было бесполезно. К тому же он занимался самоанализом, пытаясь, используя все психоаналитические достижения, вырвать боль № 2 из подсознания. Но Илья везде наталкивался на пустоту – под конец он убедился, что боль № 2 вовсе не кроется где-то в подсознании, как он думал раньше. У неё как будто не было источника, поэтому она была неуловима.
Он вспомнил, что прибегал также к помощи религии, экстаза, молился Богу, погружался в небытие – и опять всё безрезультатно.
Особенно поразило его в своё время, что даже погружение в небытие, в сон без сновидений, не помогает ему; очнувшись от этого состояния, он сразу же, с первым утренним блеском сознания, чувствовал в душе раздирающее присутствие боли № 2, как будто и в небытии совершалось её подспудное, вечное движение…
И вот однажды, когда он в полутьме лежал один на диване и все эти картины снова прошли по его душе, ужас охватил его.
«Что же такое боль № 2, – думал он, – откуда она пришла? Где её цель, её смысл? Что ей нужно от человека? Если даже и вера, и разум беспредметны для неё, если все усилия разума и веры проходят мимо цели, как будто боль № 2 находится по ту сторону их, по ту сторону всего, что существует для духа?»
Он жадно уцепился за эти вопросы и продолжал лихорадочно, точно проваливаясь, думать: вспоминал весь ужас человеческой жизни, всю её игривую, сладострастную двойственность, весь её страшный, опустошённый бред; вспоминал он также боль № 1, её исступлённую унизительность и какую-то идиотическую обречённость; не обошёл и это вечное, раздражающее присутствие потустороннего в мире…
Но все его мысли бежали, стягиваясь, как к центру, к боли № 2. Она стала его Абсолютом. Углубляясь в идею этой бездонной потусторонности боли № 2, потусторонности даже по отношению к нашему потустороннему, Илюша чувствовал, что боль № 2 – это просто частное, видимое проявление какой-то огромной, сверхзапредельной силы, у которой даже бессмысленно спрашивать, кто она, куда она идёт, для чего ей мы, люди, и т. д. Может быть, эта сила когда-то случайно коснулась его, ни о чём, разумеется, не подозревавшего; в другом случае она могла бы пройти и куда-то мимо; но теперь это её воздействие сказалось на нём в виде совершенно нелепого и навеки закрытого для человеческого разума шифра – боли № 2.
Охваченный такими мыслями, Илья тут же ощутил, что больше всего его начинает мучить то, что эта сила, по-видимому, не только вне духа, но и сильнее, глубже, значительнее его, значительнее самого абсолютного духа, следовательно, значительней не только всего, что существует для человека, но и всех высших проявлений абсолютного духа, первозданней и Бога, и бессмертия, и самого Духа в его бесконечном и чистом виде.
Это ощущение ввергло его в дикий, мёртвый, неистовый трепет, потому что вся его жизнь основывалась на предположении, что Дух – самое высшее в мире; и Илье никогда не приходило в голову, что это действительно так, но только для человека.
Даже Бог, в конце концов, открывался как Дух; во всяком случае, он был близок Духу и человеку, и хотя в «определение» Бога входила и непознаваемость, но это была не та абсолютная потусторонность и непознаваемость силы, которая случайно проявила себя лёгким смешком в виде боли № 2; непознаваемость Бога, его потусторонность, была осмысленна, прочно укладывалась, как один из кирпичиков, в само понятие Бога, входила в число других близких Духу и человеку определений; потусторонность же этой силы была совершенно бессмысленна, абсолютна и античеловечна, и у неё не было никаких других определений, кроме этой ужасающей непознаваемости, да ещё странных, нелепых проявлений, хохотушек вроде боли № 2.
Возможно, сам «Дух» и весь «Бог» в целом были всего лишь игрушками в руках этой силы…
Вдруг, одновременно с нарастанием этих мыслей, Илью сковал явный, предгибельный ужас. И в тот момент, когда он всё больше углублялся в эту бездну, внезапно он увидел, что прямо из открытой дверцы письменного стола, находившегося рядом, протягивается костлявая, чёрная – вне всех миров – рука. И чей-то хриплый, чуть дружелюбный голос, переходящий в предсмертный хохот, проговорил:
– Иди… Иди… Сюда… Сын мой…
– Кто ты?! – теряя власть, выкрикнул Илья.
– Я тот, кто пришёл увести за собой даже спасённых, – произнёс голос.
Эти страшные слова, как пустой шар, наполненный непознаваемым, вошли в сознание Ильи, разом выбросив из него всё прежнее, чем он жил до сих пор…
И всё…
Когда в комнату, где жили Садовниковы, вломились соседи и близкие, никто не признал в трупе, лежащем у стола, Илью. «Очевидно, это труп другого человека», – решила врачебная комиссия.
Поэтому захоронили Илью посторонние люди, на отшибе кладбища, под чужим именем.
Эпилог
История трупа бедного Илья Садовникова этим не кончилась. Так как его труп не признали его личным трупом, а чьим-то чужим (причём по объективным данным), то захоронение, по существу, получилось мнимое и неизвестно чьё. Было непонятно также, что всё это значило.
Это особенно задело почти обезумевшую Тамарочку. Она теперь почти всё время касалась рукой пола – и даже часто ползала на четвереньках, чтобы уверенней себя чувствовать на полу. Но, главным образом, её несло куда-то вперёд – к неизвестной могиле любимого человека. Ей казалось, что если она увидит её, то разгадает тайну боли № 2. Но могилы, по существу, не было.
Ездила она часто далеко за город – по какому-то сумасшедшему наитию – и собирала там цветы с могил старух. Глаза её блестели при этом, но каким-то обратным блеском, как будто она плакала вовнутрь себя.
А потом стали исчезать все следы Садовникова. Сначала исчезла ложка, которой он ел суп у Тамарочки, потом – пиджак, оставленный у неё на стуле, потом она будто бы потеряла его записную книжку, со всеми именами и фамилиями. Но чем более Садовников исчезал, тем более он внушал ей ужас, от которого она не могла оторваться. Но она упорно продолжала искать пустоту.
С распущенными волосами, воздушная и полунежная, грезившая о том, чего нет, рыскала она по всем кладбищам, знакомясь порой с иначе настроенными нищими, истуканами или людьми, устремлёнными ввысь.

