Не окажется ли тогда секуляризованная совесть «символическим учреждением», производящим иллюзию феноменологического опыта?
Тавтология питается верой
Я хочу включить в контекст разговора о совести и подобии совести
такие понятия, как: а) феноменологическая редукция, и б) символическая тавтология, не для того, чтобы перегружать читателя терминами, а чтобы поставить вопрос об их проекции в сферу этики.
Предлагаю здесь опираться на истолкование феноменологической редукции, которое предложил Дитер Ломар. С его точки зрения, метод феноменологической редукции работает прежде всего как выявление и размыкание порочных кругов. Порочных кругов в аргументации, в доказательствах, в философии как таковой. Главная мишень, в которую вновь и вновь бьет этот метод – petitio principii, предвосхищение основания (Lohmar 2002, 751–771). Мы не ставим вопрос о том, в каком смысле мир в качестве действительности существует, поскольку и так ясно: «вот он мир». «Я знаю, что это моя рука», и принятие этого утверждения потянет за собой все остальное, вплоть до того, что объективная реальность в ощущениях нам дана. Также мы не спрашиваем, в каком смысле существует другой субъект (помимо нас самих), потому что и так ясно: «вот же она» – и так далее. Ставя вопрос о реальности чего-то, мы чаще всего апеллируем к его реальности, тем самым запуская предвосхищение основания. Задача феноменологической редукции: возвести нас к такому опыту, в котором еще не содержалось бы то полагание, правомерность которого мы хотим продемонстрировать[36 - См.: «der R?ckgang auf ein Erfahrungsfeld, in dem die Setzung, deren Recht auszuweisen ist, noch nicht enthalten ist» (Lohmar 2002, 771).].
Другой элемент, который я бы хотел привлечь – это понятие символической тавтологии; его вводит бельгийский философ Марк Ришир (1943–2015). По его определению, «символическая тавтология отлична от (производной от нее) логической тавтологии в той мере, в которой символическая тавтология являет тождество как значимое, а не просто как самотождественность (a priori любого) термина, который выделяется или абстрагируется ради нужд рассуждения»; символическая тавтология утверждает «тождество между символической „системой“ и миром», например, говорит нам о «тождестве между знаками и вещами», заявляет «сколько мира, столько и языка» (Richir 1990, 12)[37 - «Celle-ci [tautologie symbolique] est distincte de la tautologie logique, qui en dеrive, dans la mesure o? elle manifeste l‘identitе comme signifiante plut?t que l‘identitе ? soi d‘un terme (a priori quelconque) d?s lors distinguе ou abstrait pour les besoins d‘un raisonnement […] l‘identitе symbolique entre les signes et les choses […] autant de monde que de langage». Русский перевод цитируется по (Карлсон & Ямпольская 2020, 286) – перевод незначительно изменён (прим. – Г. Ч.).], или как говорил другой философ XX века, «границы моего языка означают границы моего мира» (Витгенштейн [1921] 1994, 56). В конечном счете, символическая тавтология – это представление о том, что на разных уровнях мы имеем дело с одной и той же структурой, инстанцией, природой; она игнорирует (и заставляет нас игнорировать) разрывы при переходе из одного регистра опыта в другой.
Бельгийский философ развивает свою мысль так: «Символическую тавтологию приводит в движение символическая вера (например, вера в истину), которая может деградировать до символического плена (такова ситуация с астрологией для познания, таковы ритуал или фанатизм в случае практики), которому соответствует автоматизм повторения» (Richir 1987, 99-100)[38 - «La tautologie symbolique est animеe d’une foi symbolique (par exemple, la foi en la vеritе), qui peut dеgеnеrer en une capture symbolique (cas de l’astrologie pour la connaissance, du rituel ou du fanatisme pour la pratique), corrеlative de l’automatisme de repetition» (Richir 1987, 99-100); «[La tautologie symbolique] donne l’apparence que je ne „connais“ du monde que cela m?me que j’y re-connais (?tres, choses, qualitеs, formes, еtats-de-faits, etc.)» (Richir 1991, 45).]. Здесь эхом отдается знаменитый тезис классика русского формализма: «Автоматизация с’едает вещи, платье, мебель, жену и страх войны» (Шкловский 1919, 105). Возвращаясь к «символической тавтологии», по характеристике бельгийского философа она «создает видимость того, что я „знаю“ о мире только то, что я в нем узнаю (существ, вещи, качества, формы, положение дел, и т. д.)» (Richir 1991, 45). Опять же это отзывается тезисом со следующей страницы той же хрестоматийной статьи «Искусство как прием»: «Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим» (Шкловский 1919, 106). Должен признаться, что затертость вещи, платья и мебели беспокоит меня гораздо меньше, чем зловещая рациональность ритуала, фанатизма и автоматизма, съедающая жену и страх войны. Беспокоящая странность отмечает вторжение ритуала и автоматизма в область вины, совести и долга. Узнавание на месте ви?дения становится действительно острой проблемой, когда проникает в сферу этического самоотчета.
Меня прежде всего беспокоит ситуация, когда символическая тавтология вменяет нам свою «символическую веру», заявляет, во что нам «положено верить» и, соответственно, какие вещи нам положено узнавать без того, чтобы их видеть. Представим себе: мы слушаем речь на каком-нибудь профессиональном собрании. При этом что-то не так, нам «не по себе» от догматической, самоуверенным тоном высказываемой тавтологии, которая к тому же высказывается с позиции власти и применяется к нам. Причем проблема далеко не только в том, что к нам просто безобидно применили какое-то понятие (как это делал козленок из мультфильма, который научился считать до десяти и всех «сосчитал») – это было бы полбеды. Проблема прежде всего в том, что от нас требуют констатировать, что «все так», и если мы откажемся, то в отношении нас последуют оргвыводы. В таком случае почти безнадежными выглядят попытки опровергать круг в аргументации, восклицать «постойте, произошла чудовищная логическая ошибка», поскольку тавтология уже едет по вам асфальтовым катком, в отношении вас принимаются соответствующие меры.
В этой связи, на примере либретто «Антиформалистического райка» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, я бы хотел поставить вопрос об этической функции выявления тавтологий и феноменологической редукции. Речь пойдет о размыкании тавтологии («вам кажется, будто здесь что-то не так, а между тем это так, я не оговорился») посредством удивления, заставляющего проснуться посреди морока канцелярской риторики. Процитирую речь товарища Единицына:
Товарищи! Реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы? | Народные композиторы пишут реалистическую музыку потому, товарищи, что, являясь по природе реалистами, они не могут не писать музыку реалистическую. А антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут, не могут не писать музыку формалистическую. | Задача, следовательно, заключается в том, чтобы народные композиторы развивали б музыку реалистическую, а антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической (Шостакович [1948, 1968] 1993, 95).
Здесь в первую очередь завораживает тавтология, пронизывающая все, начиная от молчаливо подразумеваемой «природы» до высказываемых (непроясненных и при этом нормативно насаждаемых) (Добренко 2020, 565) эстетических установок. Интересно то, как, прошивая разные уровни одним и тем же тезисом, товарищ Единицын обеспечивает слипание вопросов «как обстоят дела?», «почему?» и «что делать?». В центре речи как шарнирное сочленение установлено двойное отрицание «не могут не». «Антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут не писать музыку формалистическую» – ответ на вопрос «почему?» замещается постулированием «природы», которая дублирует «формалистическую музыку». В свете этого «объяснения» странноватой кажется формулировка задачи: «задача, следовательно, заключается в том, чтобы […] антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической». Но постойте, они же, «являясь по природе формалистами, не могут не писать музыку формалистическую»! Судя по всему, тем хуже для них.
Для тех, кто не усвоил с первого раза основные постулаты, к либретто Шостаковича прилагаются вопросы «на закрепление материала»:
1. Какую музыку пишут народные композиторы? | 2. Какую музыку пишут антинародные композиторы? | 3. Почему народные композиторы пишут реалистическую музыку? | 4. Почему антинародные композиторы пишут формалистическую музыку? | 5. В чем заключается задача народных композиторов? | 6. Должны ли антинародные композиторы прекратить свое более чем сомнительное экспериментирование? (Шостакович [1948, 1968] 1993, 97)
Если вы правильно ответили на эти вопросы, то вместе с выступающим вы осуществили ряд полаганий: существования «реалистической музыки» и ее антагониста «музыки формалистической», существования «народных композиторов» и противостоящих им «антинародных композиторов», а также существования «природы», в соответствии с которой те и другие «не могут не» делать того, что они делают.
Я хочу обратить внимание на то, что это не логическая, а символическая тавтология. Утверждается существование трех уровней (композиторов, их музыки и стоящей за ними природы); при этом на всех уровнях господствует один и тот же антагонизм: противостояние народных и антинародных композиторов, реалистической и формалистической музыки, народно-реалистической и антинародно-формалистической природы. В чем наша задача в ситуации, когда нас пытается поглотить такого рода символическая тавтология? Как мы можем разомкнуть порочный круг предвосхищения оснований? Некоторым выходом, способом ускользания из морока символической тавтологии может быть, говоря словами Виктора Шкловского, остранение. Описывая эту угрожающую пустопорожнюю риторическую машину с позиции непонимающего удивления, мы больше «не влипаем» в те контексты, которые она нам навязывает, не осуществляем те полагания, которые она от нас требует. Кажется, что мы увернулись от речи товарища Единицына (Сталина); но тут нас настигает речь товарища Двойкина (Жданова). Процитирую особенно показательный фрагмент; он метит в тех, кто пытался защититься от первой речи путем ее остранения:
Вам это странно? Да? | Ну, конечно, вам странно это. | Странным вам это кажется, | странным вам это кажется. | Да, ну, конечно, вам странно это, | странным вам это кажется, | странным вам это кажется, | будто здесь что-то не так. | А между тем это так! | Я не оговорился! (Шостакович [1948, 1968] 1993, 95)
Что странно в этой второй речи? Прежде всего хочу обратить внимание на «да, ну, конечно, вам странно это». А почему, собственно, «конечно»? Тот, кто находит речь Единицына странной, должен спросить себя: не потому ли мне она странна, что «являясь по природе формалистом», я не могу не занять сторону «антинародных композиторов»? Тот, кому символическая тавтология кажется странной, находится не на стороне «нормальных людей», а на стороне «преступных, больных, греховных» (Гарфинкель 2007, 132). В этом, по крайней мере, хочет нас убедить сама символическая тавтология. То есть морок символической тавтологии хочет нагнать нас на следующем шаге и вменить нам норму «неостранения» (Меерсон 2001). Символическая тавтология проецирует на нас, своеобразно понятые, вину, совесть и долг. Будучи странными этическими конструкциями, такого рода «вина», «совесть» и «долг» вменяют нам то, что от нас не зависит. «Являясь по природе формалистом», я «не могу не» делать то, что я делаю, тем не менее я «обязан» интроецировать вину за это. Что-то не так, мы в ловушке. На нас проецируется «нечистая (по определению) совесть», по логике petitio principii мы всегда уже «виноваты», «долг» невозможен к исполнению (попробуйте написать «реалистическую музыку»).
Чем нам может помочь остранение? Размыканием слипающихся тавтологических структур. Удивлением самому себе: «Вот я, Виктор, мог быть и Владимиром, Николаем» (Шкловский 1983, 82)[39 - О контингентности собственного имени, на которое нанизывается идентичность, см.: «[По святцам] отец мой получил имя Галактиона, его брат попал на созвучного святого и всю жизнь щеголял редким именем Никтополион. Мои братья получили Юлиана и Илариона, родись я в день святого Псоя, то быть бы мне Псоем Короленко» (Короленко [1903] 1956, 362).], которое позволяет разомкнуть тавтологию «я – это я». Не в смысле ухода от ответственности («Я не я, и лошадь не моя»), а в смысле упрямого непонимания, что такое «реалистическая музыка», кто такие «антинародные композиторы» и какова их «природа». Не только в смысле упрямого непонимания как возможна «реальность» и что значит «это – моя рука», но и в смысле несовпадения с тем самотождественным субъектом, которого эта речь на меня проецирует. Проецирует, имплантируя в меня невротическую «вину», специфически понятые «совесть» и «долг». Например, речь хочет навести на меня ощущение, что если я не разделяю основные постулаты единицынско-двойкинской эстетики, если она мне кажется странной, если мне кажется, что с ней «что-то не так», то это моя вина. Сама моя «совесть» должна подсказать мне, что я не прав в своем упрямом формализме и что мой «долг» «выкорчевывать врага», в том числе в самом себе. «Голос совести», который должен был бы быть зовом самой моей подлинности, замыкает невротическую «вину» на выморочный «долг». Так «защелкивается» символическая тавтология «антинародных композиторов, которые, являясь по природе формалистами, не могут не писать формалистическую музыку».
Феноменологическая редукция, о которой я говорил в начале главы (попытка избежать предвосхищения оснований), – не столько метод, сколько феномен. Это метод только в том (странном) смысле, что он трансформирует того, кто его практикует. Так и остранение – не столько художественный прием, сколько выпадающее на нашу долю несовпадение феноменологического и символического регистров. В символическом регистре мы «виноваты» в том, что «являясь по природе формалистами, не можем не писать формалистическую музыку», наша «совесть» подсказывает нам, что мы ведем себя как «антинародные композиторы», «долг» которых в том, чтобы «прекратить свое более чем сомнительное экспериментирование». В феноменологическом регистре мы с недоумением обнаруживаем, что что-то не так и на уровне невротической «вины», и на уровне подозрительно-конформистской «совести», и на уровне выморочного «долга». Интересно, что некоторые слушатели оратории Шостаковича и исследователи рассматривали ее как парадоксальное переприсвоение программы «реалистической» музыки (Мессерер 2005, 58; Добренко 2020, 564). Выводя на свет символическую тавтологию вменяемых нам «вины», «совести» и «долга», сможем ли мы сделать их по-настоящему своими?
В исследовательской литературе уже сближали феноменологическую редукцию и остранение[40 - Сопоставление феноменологической редукции и остранения в последние годы проводили Анна Ямпольская (Ямпольская 2017), Мария Стенина (Стенина 2021), из более классических текстов, где это сравнение активно проводится, стоит назвать лекцию № 12 из лекционного курса Мамардашвили о современной европейской философии (Мамардашвили [1978] 2014, 272).]. Я предлагаю поставить вопрос о действенности как феноменологической редукции, так и остранения в сфере этики. Они позволяют нам разнести «вину», «совесть» и «долг» на разные регистры и приостановить замыкающую их друг на друга символическую тавтологию. Если тавтологию питает «символическая вера», то остранение и феноменологическая редукция представляют собой этапы «разуверения». Эти «практики удивления» дают нам шанс на то, чтобы не быть уловленными невротической «виной», конъюнктурной[41 - «А правдива ли она [эта музыка] по своему тону? Можете ли вы, выверив ее по камертону, который у вас, коммуниста, должен звучать в сознании, сказать, что она правдива?» (Чёрный 1953, 235; см. комментарий Добренко 2020, 561). Судя по всему, этот «камертон» может быть сконструирован и «вживлен». См. об этом главу «Сталинская ласка».] «совестью» и выморочным «долгом», шанс на подлинную вину, совесть и долг.
Символическое учреждение совести
Мы бы ссылались на него [комментарий Ришира к «Началу геометрии» Гуссерля] чаще, если бы его автор менее агрессивно проводил в этом комментарии свою позицию, применял свои концептуальные схемы, чьи основания и отношения с феноменологией он считает излишним объяснять, уже сделав это в каком-то другом тексте. Так, с самого начала – и уже, не без некоторой навязчивости, до самого конца – М. Ришир говорит о геометрии как о «символическом институте [institution symbolique]», применяя, таким образом, словарь, незнакомый Гуссерлю, не говоря уже о том, что введение терминов «институт» и особенно «символический» со всеми его коннотациями сулит больше трудностей, чем результатов.
(Маяцкий 1996, 253)
Приведенная в качестве эпиграфа реплика Михаила Маяцкого (самое раннее, насколько мне известно[42 - Второе упоминание Ришира по-русски (из которого я узнал о существовании такого философа), вероятно, – в статье Юлии Орловой: «В настоящее время во Франции феноменологией эстетического образа занимается Марк Ришир» (Орлова 2005, 204).], упоминание философии Марка Ришира по-русски – 1996 года) выявляет интересный парадокс: смысл символического учреждения (по Риширу) состоит в том, что мы встречаем его как нечто всегда уже пред-данное, как фильм, который мы смотрим с середины, где роли уже распределены, персонажи представлены, а все окружающие воспринимают происходящее как естественное. Ирония ситуации состоит в том, что Ришир вводит это понятие в статье 1987 года и не видит необходимости возвращаться к его определению уже в 1990 году. Получается, что понятие «символическое учреждение» служит иллюстрацией эффекта символического учреждения.
Различие между символическим учреждением и феноменологическим опытом в том, что в рамках первого «всегда уже» ясно, что такое X, в то время как второе сталкивается c неопределенностью и недооформленностью так называемого X. Феноменологический опыт тоже закрепляется в форме учреждений, однако потенциально все же отсылает к исходному опыту (Urstiftung). Символическое учреждение может работать как Stiftung без Urstiftung. В качестве примера вспомним максиму № 136 Ларошфуко: «Иные люди только потому и влюбляются, что они наслышаны о любви»[43 - (Ларошфуко 1971, 160); «CXXXVI. Il y a des gens qui n’auroient jamais еtе amoureux, s’ils n’avoient jamais entendu parler de l’amour» (La Rochefoucauld 1884, 82). См. Lacan 1973, 59.]. Символическое учреждение предъявляет себя как всегда уже заданное (Oceania had always been at war with Eastasia), как прочерченное внутри каждой культуры различие природы и культуры (Richir 1983, 249). В этом его тавтологическая природа, заложенное в нем предвосхищение основания: различие природы и культуры всегда уже прочерчено внутри культуры.
Предлагаю применить понятие «символическое учреждение», стоящее на пересечении феноменологической философии и постструктурализма, к этической проблематике. А точнее, применить ришировское различие феноменологического и символического регистров (и, соответственно, Urstiftung и institution symbolique) к проблеме различения совести и подобия совести
.
В рамках такого символического учреждения как «совесть»/ совесть
«уже известно», что такое вина. А в некоторых более ригидных ее версиях также известно, что ТЫ всегда уже виноват.
Попробуем детальнее различить феноменологический и сммволический регистры совести.
* * *
Меня интересуют два случая, которые я вижу как полярные пограничные случаи.
В первом из них я слышу «голос совести», но дисквалифицирую его как голос совести
. Этот голос апеллирует ко мне: он буквально говорит мне: «Ты должен делать то-то и то-то» – поэтому, квалифицируя его как «голос совести» или голос совести
, я подспудно принимаю решение следовать его рекомендации или нет. Насколько влияет мое намерение следовать (или не следовать) рекомендации внутреннего голоса на то, как я его квалифицирую? Если говорить прямо: не называю ли я голосом совести
тот «голос совести», которому не хочу следовать? Само понятие «подобия совести», совести
– не способ ли это избавиться от нежелательного долженствования?
Во втором случае я «с чистой совестью» совершаю некоторое действие. Другой (Значимый Другой) говорит мне: «Как ты можешь так поступать?! Твоя совесть должна была подсказать тебе, что так поступать нельзя. Ты действуешь против совести». Я внимательно прислушиваюсь к своей совести, и она спокойно говорит мне: «Ты не сделал ничего дурного». При этом Другой убежден, что я поступил против совести, причем против моей совести. Как если бы у него был более прямой и более надежный, чем у меня, способ доступа к моей совести. Другой совершенно уверен в своей правоте, а вот я ни в чем не убежден, во мне только тлеет подозрение: не пытаются ли мне вместо моей «совести» имплантировать совесть
?
Итак:
А. Переводя «голос совести» в разряд голоса совести ?, как удостовериться, не сбегаю ли я тем самым от совести?
Б. Слыша от значимого Другого «ты действуешь против своей совести» (притом, что моя «совесть» спокойна), какой[44 - «‘Совесть – это человеческое сознание (mind)’. Но человек взывает: „У меня таких сознаний два. Меня влечет в двух направлениях. Я хочу знать, какого из мнений мне придерживаться, какой путь мне следует избрать. Именно это сомнение-то и привело меня к твоей книге“ (‘Conscience is the mind of a man.’ But cries the man, ‘I have two minds. I am drawn two ways. I want to know which mind I should be of, which way I should take. That is the very doubt which has brought me to your book’)» (Maurice 1868, 110).] голос я должен считать «голосом совести», а какой голосом совести
?
Если в теории познания принято стремиться к абсолютно несомненному, то в этике (особенно при разбирательстве с псевдоэтическим, например, совестью
) «несомненность» выглядит как антикритерий, как знак догматического «слепого пятна». Если я совершенно убежден, что я прав, то со мной что-то не так, возможно, именно в этом я и не прав. Если значимый Другой категорично заявит мне: «Тут ты действуешь против совести», я первым делом стану проверять, не пытается ли он имплантировать мне чувство вины. Совесть
, как правило, убеждена, что она-то и есть подлинная совесть, а «совесть» не знает до конца свой статус. Я исхожу из того, что совесть
происходит из символического измерения, а «совесть» из феноменологического измерения, притом, что обе «живут» и там, и там. Родимым пятном совести
будет ригидность и уверенность в себе («я твоя подлинная совесть, все остальные голоса – самозванцы!»), «совесть» же до конца не знает, подлинная ли она или нет.
Подводя итог: а) моя «совесть» неспокойна, но я дисквалифицирую ее как совесть
; б) моя «совесть» спокойна, но кто-то пытается имплантировать мне совесть



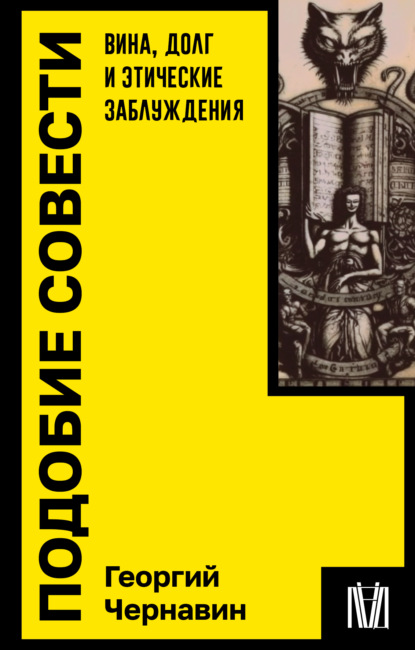




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0