
Пирог с крапивой и золой. Настой из памяти и веры
Поздно.
Я уже не здесь, а четырьмя годами ранее, слушаю страшилки по ночам и чищу камины вместо заносчивых выпускниц. Давлюсь грязной водой, ем в одиночестве и пытаюсь смирить в своем маленьком сердце праведный гнев. Потому что слабые не имеют права на ответный удар. Только на смирение и надежду на защиту свыше. Я молюсь с Касей, истекаю кровью с Касей, теряю разум и всем существом тянусь к холодному образу матери с навсегда застывшим лицом. И сама Кася садится на край моей постели, склоняет невесомую голову на мое плечо и водит когтистым пальцем по строкам.
«Я уже не уверена в том, что делала, а чего нет».
«Я слышу стук – и тону».
Над верхней губой выступает пот. Я бы и рада закрыть проклятый дневник, но все читаю и читаю, будто завороженная.
«Глаза мамы улыбаются, она говорит со мной, только губы ее не шевелятся».
«Я ничего не помню!»
Кася хихикает мне в ухо, щекочет ледяным дыханием.
«Тук-тук».
Я с воплем вскакиваю с кровати, сердце колотится как сумасшедшее. Только через несколько секунд я понимаю, что стук в дверь был настоящим. Голос из коридора зовет меня:
– Магдалена, открой, пожалуйста. Нам нужно поговорить.
Пани Новак. Еще час назад я бы и папе римскому не открыла, но после чтения Касиного дневника мне жизненно необходимо увидеть хоть одного здравомыслящего человека.
– Магдалена, я не стану тебя ругать. То есть осуждать, – тут же поправляется она. – Ты уже взрослая девушка. Давай побеседуем как две взрослые девушки, хорошо?
Душечка – меньшее из зол. Вот если бы пришла директриса, я бы скорей из окна выскочила, чем впустила ее.
– По секрету – мне тоже не понравилось, когда пани Ковальская заговорила про деньги. И это в такой момент! – понизив голос, добавляет она. – Очень цинично, не находишь?
Все понимает.
Осторожно наклоняю стул, чтобы не оцарапать паркет ножками, и приоткрываю дверь. Пани Новак смущенно улыбается. Глаза у нее припухшие, с веками цвета сырой курятины и редкими светлыми ресницами.
– Можно войти?
– Я не убивала Данку. И Юлию не прогоняла.
– О чем ты, Магда? – Круглый подбородок у нее морщится и дрожит, будто это не я, а она сейчас разревется, как последняя соплячка. – Никто не винит тебя ни в чем подобном. Это все мы, мы…
Делаю шаг назад. Пусть входит, если хочет.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, отчего мой чемодан стоит распахнутый посреди комнаты, а на полках и столе не осталось ни бумажки, ни шпильки.
– Куда поедешь?
– К тетке в Краков, – буркаю я.
– Хорошо, когда есть куда податься… Правда, Магда? – Молчу в ответ, но Душечка и не ждет от меня реплик. – Это значит, что жизнь продолжается.
Какое‑то время мы молчим. Пани Новак сидит на краешке незастеленной Касиной кровати, смирно сложив руки на коленях. Я же роюсь в сваленных комом тряпках, пытаясь выпутать оттуда приличную пару чулок. Один уже нашла, а второй узлом завязался на тонкой бретельке комбинации.
– Как будешь поступать без аттестата? – между прочим спрашивает наставница.
– Пережду год, буду работать. Или сразу переведусь в общественную. Не пропаду.
Душенька кивает, глядя на меня с явной жалостью. Ее взгляд так и говорит: «Ты совершаешь самую страшную ошибку в своей жизни, но я слишком прогрессивная женщина, чтобы тебя отговаривать». Проклятье. Может, я и правда ошибаюсь?
– Данута была жуткой стервой, – внезапно для себя самой выдаю я. – Терпеть ее не могла с третьего года. –Не лучшая идея говорить о таком. – Вы бы знали, какая она на самом деле, когда наставницы не смотрят. Только прикидывалась правильной. И я не раз желала, чтобы она сдохла. – Заткнись, заткнись, заткнись! – Как есть говорю. Вчера она угрожала мне, и я потеряла контроль. Но теперь, когда она… – Да что же я несу! – Почему мне не легче? Все стало только сложнее.
– Потому что ты хороший человек. У всех нас есть несколько лиц, это нормально, ограничивать себя, держаться в рамках установленных правил, а где‑то находить отдушину. Это как снять на время тесные туфли. Человеческая природа…
– Но это же не повод мучить других. – Мне неприятно оттого, что Душечка ее выгораживает. Это что же, она пролезла в мою комнату, чтобы сказать, какая Дануся милая?!
– А что ты знаешь о том, что мучило Дану?
Все мое негодование будто наталкивается на незримую стену.
– Ты ведь не знаешь, – дрожащим шепотом добавляет пани Новак, и Данка кивает, выглядывая из-за платяного шкафа. Сплошь черные глаза больше не косят, кожа Даны белей фарфора, а волосы струятся по комнате, темной рекой утекая под закрытую дверь.
– Что с ней стало? Как это… случилось?
Пани Новак смотрит на меня долгим, по-кошачьи пристальным взглядом, будто прикидывая в уме, стоит ли делиться подробностями.
– Ее быстро нашли, будто она этого хотела. Тут неподалеку есть поляна…
…окруженная старыми буками. Если бы можно было посмотреть на нее сверху, то она показалась бы почти круглой, точно монетка. В ее центре чьи‑то руки устроили углубление и выложили контур камнями. Пансионерки не раз жгли там костры, когда удавалось выбраться из-под строгого надзора. Жарили хлеб на веточках орешника. Водили хороводы и пели. Проливали кровь на угли.
– Она зачем‑то сняла пальто и форму. Разулась. Только камею вашу…
…приколола на сорочку. А на шею повесила табличку «Набожность». И повязала длинный шарф.
– …только не свой. Твой белый, Магда. И это не дает мне покоя. Что ей стоило?.. Зачем?..
Чтобы подчеркнуть мою причастность, зачем же еще. Последний привет от бывшей лучшей подруги. Дана вскарабкалась по стволу, выбрала ветку попрочней и обвязала один конец шарфа вокруг нее. Она раньше говорила, что длинный шарф – так себе. А потом оттолкнулась от холодной коры и спрыгнула.
Я стою под буком и вижу, как взлетают ее руки к горлу, ногти в кожу до красных капель. Шея не сломалась. Дана хрипит, ноги пляшут. Долго. А я смотрю – не оторваться…
– М-магда?
…и мне тепло. Вот – затихла. Только по бледной ноге стекает в траву тихая струйка.
– Магда! Ты слышишь меня, Магда?!
Данка прижимает палец к губам, молчи, мол. Я улыбаюсь ей в ответ. Как в детстве.
– Врача! Виктор! Ви-и-иктор!!
Первые лучи скупого октябрьского солнца касаются голых ветвей и жухлой травы на поляне. Высвечивают золу и седые угли кострища. Я мягко отступаю в заросли молодой крапивы, пока они не смыкаются у меня над головой.

Дневник Касеньки, 1923 год
Пан Бусинка хорошо перенес путешествие. Я побоялась оставить его в пансионе на целых два месяца. Его разорвала бы кошка, переломала бы крысоловка или подстерег в случайной крошке яд. Нет, даже думать о таком не могу!
Все лето он провел в нашем доме. Дедушка позволил поселить крыса в старой клетке, в которой когда‑то держали соловья. Пану Бусинке в ней не очень‑то нравилось, но что поделать. Я положила туда лоскуты ткани, чтобы ему было из чего строить гнездо, и блюдечко для воды. Уверена, он все понимает.
Иногда я брала его на прогулки в сад. Он дичился и не убегал далеко, да и мне было немного не по себе. Стоило ему заслышать какой‑нибудь шорох, как он тут же становился столбиком, а потом бросался ко мне. Когда я держала его на руках, то чувствовала, как часто бьется его крохотное сердце.
К концу лета дедушка успел привыкнуть к моему питомцу (хотя сначала называл гадостью и передергивал плечами, когда видел его голый хвостик) и даже предложил оставить крысенка дома. Сказал, что будет его беречь и заботиться, кормить и чистить клетку. Но я, как могла, объяснила, что пану Бусинке будет лучше рядом со мной.
На самом деле я просто гадкая эгоистка и мне невыносима мысль о расставании с милым зверем. Вот и сейчас, в поезде, он высунул мордочку из кармана, где спал до этого, и смотрит на меня умными блестящими глазами с красной искоркой. Он преданный друг. И потом, Магда писала, что тоже соскучилась по нему.
* * *Сегодня. Будто не два месяца прошло, а много лет. Увидев пансион, я даже засомневалась – а точно ли здесь я училась последние два года? Нет ли ошибки? Это место как чужое. Младших девочек все больше, так много незнакомых лиц.
Успокоилась, только закрыв за спиной дверь дортуара. Наконец‑то!
А внутри – милая, задушевная моя Магда! Лицо загорелое, кудри что чугунное литье, а глаза голубые – зависть пробирает, но не такая, за которую стыдно. Смотрю, как она усадила пана Бусинку на плечо и щекочет его подбородок, и легко на сердце. Я дома. Это тоже мой дом.
Позднее добавляю: новость дня! Данка остригла косы! Теперь она фу-ты ну-ты, просто француженка. И брови выщипала в нитку, как актриса! С ума сойти! Мы с девочками еще не такие храбрые, ха-ха!
* * *
Нет, не могу, не могу!
* * *Пожалуй, я все же должна об этом рассказать. Так будет честно.
Это случилось в умывальне. Я зашла туда, чтобы замыть пятнышко от джема, так неудачно капнувшего на воротник моей формы. Развязала узел и принялась мылом тереть пятно. И все бы обошлось, если бы я не покосилась на зеркало.
Что‑то в отражении смутно беспокоило меня, что‑то непривычное, но ускользающее от взгляда. Сначала я подумала, что это неприкаянные снова решили навещать меня, а ведь такого не случалось все лето. Но мне потребовалась пара минут, чтобы осознать, что незнакомое – это новая тень в моем вырезе. Складки ткани распустились и приоткрыли край комбинации и грудь под ней.

Ничего непристойного! Ну, то есть я знала, что однажды она должна вырасти, как у женщин, которых я знала, но только теперь заметила ее по-настоящему. Мне стало так стыдно смотреть на себя, но в то же время любопытно. Стало интересно – а как я выгляжу целиком? Я – новая или все та же старая плакса Кася, только с крохотной, едва заметной тенью под платьем?
И – вот невезение! – за этим меня и застала сестра Беата: у зеркала, с развязанным воротником, разглядывающую собственный вырез платья. Я увидела монахиню в отражении и отскочила подальше, но поздно. Она успела сделать выводы.
– Иди за мной, – сухо бросила сестра Беата.
Я послушалась.
В кабинете сестры очень пусто и плохо пахнет – будто жгли ветошь. Она оставила меня стоять у дверей, а сама принялась расхаживать из угла в угол, то протягивая руки к распятию, то потрясая ветхим псалтырем. Я почти не слышала, что она говорила. Я будто оглохла и только наблюдала, как открывается и закрывается маленький рот над массивным подбородком. Так странно, неприкаянные, что приходят ко мне, и совсем не открывают ртов, но говорят так много.
– Ты поняла меня, Монюшко?
– Да, сестра Беата.
Она прищурилась, и кожа на щеках натянулась, будто на барабанах.
– Мне не нравится твой взгляд. Как ты смеешь так смотреть?! Как ты смеешь!!
Я уже и не знала, что ответить, поэтому просто стала смотреть только на свои туфли. По паркету от моих ног ползли трещины, тонкие, как паутинка. Они становились все более явными, их вот-вот заметит монахиня. Что‑то тогда будет? Мне было почти не страшно, даже когда трещины добрались до подола рясы сестры Беаты и пол начал осыпаться в черную пропасть прямо у ее башмаков. Почему она не падала вместе с ним?
– Отвечай мне, дитя, – вдруг властно сказала сестра Беата после долгого молчания. – Тебя уже коснулось проклятие Евы?
А я забыла, что это! Совсем! И теперь у меня целые две таблички: «Целомудрие» и «Набожность».
* * *И все‑таки смотрю на наши таблички и удивляюсь. Так странно, они не говорят о том, в чем мы провинились. Они кричат о том, каких добродетелей нам не хватает.
* * *Данка такая храбрая! Обожаю ее!
Сегодня две девчонки годом старше хотели вызнать побольше и напроситься на наш вечер. Не знаю, как пронюхали, подслушали, наверное. Мы были с Даной, и тут она как выступит:
– Наш клуб вообще‑то не для каждой встречной-поперечной. И уж точно не про вашу честь!
– Думаете, вы особенные? – оскорбилась девчонка.
– Да, думаем, – не сдавалась Данута. – Самые особенные.
– Мы наставницам скажем, – вставила другая четверогодка. – Что вы после обхода собираетесь!
– Попробуйте. – Дана стала наступать на них, как какой‑нибудь бесстрашный римский центурион. – И увидите, кому хуже будет.
Пансионерки пофыркали и ушли. А я почувствовала, что мы тут одержали победу. Ну, не мы. Данка. И в этот миг я ее очень сильно любила.
Кто знает, может, и она меня полюбит.
* * *В эту пятницу мы с Магдой хорошо подготовились к сеансу: ей пришло в голову устроить целый салон. Мы собрали все, что могло пригодиться: нарядились в шали и шарфы, Магда подрисовала мне глаза угольком (который сначала попал в глаз и щипал ужасно, пришлось все смывать и рисовать заново).
После второго обхода мы расставили свечи и стали ждать девочек. За девочками пришли и мои неприкаянные.
Мне бы хотелось, чтобы после наших встреч им становилось так же легко, как и мне. Чтобы их путь в тени перестал быть таким одиноким и незаметным. И они нашептывают мне свои тайны, а я передаю их подругам. Призрачные пальцы гладят меня по волосам. Так нежно.
* * *Я долго думала, почему только мамин дух все время рядом со мной? Ведь поначалу она приходила вместе с отцом. Но потом решила, что у папы, как и в земной жизни, какие‑то дела в потустороннем мире. Ведь я и так мало его видела. Все больше в разъездах и на службе. Может, теперь он служит в небесной канцелярии? Ее ведь не зря так называют.
И еще одно не дает мне покоя – почему она не желала являться ко мне, пока я жила в доме у дедушки? Она же в нем выросла!
* * *Последние новости: Магда стала солисткой хора. Когда она поет, у всех на глазах выступают слезы, даже у самых черствых. Будто тьма внутри плавится, как воск, и вытекает, освобождая место для чего‑то лучшего.
Я совсем не завидую. У меня даже слуха нет, ни одной ноты не выведу.
А Магдалена – настоящая соловушка! Ее тембр называется «колоратурное сопрано» и звучит как скрипка. Уверена, однажды она будет петь на большой сцене и объездит с гастролями весь мир, как и мечтает. Люди будут слушать ее пение и осыпать ее цветами и бриллиантами. А я…

Девочки по очереди пытаются связаться с неприкаянными через доску Уиджа. Мне самой она не так нужна, как им. По очереди берут плашку и водят по доске. Но они не слышат неприкаянных, а доска показывает только то, что они сами хотят видеть. Так нечестно. Я уже вижу легкое разочарование и намек на скуку на их лицах. Сначала я не была в этом уверена, но мама объяснила мне, что они чувствуют.
Боюсь, если ничего не менять, игра совсем надоест им и я снова превращусь в пустое место. Значит, придется менять правила.
Мама говорит, так будет лучше всего.
* * *
1923 год. Белая кость I
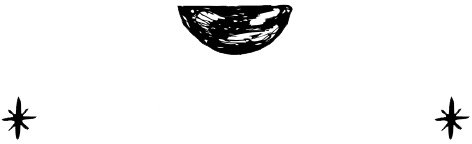
Мне больше ничего не приходилось делать. Ладони раскрылись, и легкие пепелинки подхватил ветер, закружив их в прихотливом потоке. Какая прекрасная, полная жизни картина! Дивный букет юных уродств, и тон задает самое изысканное из них. Как же славно все сложилось!
То, что правила игры изменились, можно было почувствовать – воздух пах переменами. Тела девушек переживали метаморфозы, менялись их мысли, плавились их сердца, а легкие раздирало звездной пылью.
Данута всегда была самой мятежной, непокорной, с живым огнем под кожей. Она не умела его прятать и не хотела.
Она всегда жаждала во всем быть первой, будто не хватало чего‑то внутри. Если бы душа имела форму, ее была бы копьем, летящим в цель. Такая же негибкая, хрупкая и смертоносная. Несколько месяцев она с изумлением наблюдала, как далеко способна зайти Кася. Как много власти она может отобрать. Временами Дане даже нравилось уноситься по течению сладкого ужаса, не сопротивляясь.
Но, вернувшись на третий год обучения, Данута была готова отвоевывать корону обратно. И не важно, по законам живых или мертвых. Горячая кровь, густая злоба.
Легким шагом, тихим словом – она убедила девочек, что Кася много на себя берет. Страхи прошлого года успели забыться, и обвинения во лжи снова стали такими удобными.
Кася испугалась. Она едва начала привыкать к прямой спине и открытому взгляду, как у нее собрались отобрать единственное, чем ей удавалось гордиться, – источник вечной мудрости, знак исключительности. Преданность девочек.
Бедная маленькая Кассандра.
Кася пошла на жертву, чтобы удержать их подле, чтобы продлить дружбу. Она поступилась малым. Удивительно, но ей даже не пришлось обращаться за советом к духам, чтобы принять это решение. Разве что они шепнули ей пару слов во сне.
Итак, Кася собрала всех девочек в их с Магдой комнате впервые в этом году. Их вечера уже мало напоминали обычные девичьи посиделки.
Магда сделалась замкнутой и будто вечно чего‑то ждала. На все вопросы только качала головой. Ее часто можно было застать с нательным крестиком, прижатым к губам, словно она сама себе затыкала рот. Открывала она его только для того, чтобы петь.
Мария не отрываясь глядела Кларе через плечо, стараясь не упускать ни одного штриха, что ложился на бумагу. Клара хмурилась, но не прогоняла ее. Воздух между ними густел, набрякал от недосказанности. Или, наоборот, от сказанного лишнего. Штрихи на бумаге становились все резче. Мария не отрывала глаз, ее тонкие светлые косы стекали по чужому плечу.
Данута выжидала. Она держалась надменно, раскованно, сидела по-турецки, оголив колени. У нее была взрослая пижама на тонких бретелях, с треугольным вырезом и в желтых китайских драконах, а гладкие волосы теперь завивались остриями на середине щек. Их перехватывал повязанный набок вишневый шарф из невесомого шифона. Дана первой остриглась по последней моде и выщипала брови, как у актрис кино или девушек в журналах, – потому ее взгляды считались самыми передовыми и верными.
Юлия же казалась оживленней обычного. Она со всеми пыталась поддерживать разговор и изо всех сил создавала видимость дружеской обстановки.
Свечи, слепленные по три-четыре, оплывали в блюдцах.
Кася вынула из чемодана доску Уиджа, укутанную в пунцовый плюш.
Будто бы ничего не изменилось, но даже стены чувствовали приближение важных перемен. Кася полуопустила веки, будто они стали слишком тяжелыми, и оглядела одноклассниц.
Они повзрослели. У них под кожей колючками прорастали тайны, руки стали тоньше, а колени круглее. В коробках с записками поселились крошечные календарики с красными пометками, а в улыбках появилось что‑то ускользающее от взгляда.
Меня не было рядом в момент, когда все свершилось, мне неизвестно, какими словами она удержала их рядом, поступившись малым – своей уникальностью.
Распахнулся и соскользнул на пол пунцовый плюш, в котором Кася хранила свою игрушку.
«Духи сказали мне, что наша встреча не была случайной».
«Сама судьба свела вместе особенных девушек».
Жаль, меня не было рядом.
Новые правила были приняты ими легко, будто они естественным образом продолжали те самые волшебные изменения, которые происходили в телах и душах.
«Вам будут подвластны огонь и ветер, земля и вода. Птицы будут пересказывать чужие разговоры, дикие звери склонят свои головы».
Они выбрались наружу по тому самому клену, что третий год стучался в окно, и устремились в лес – белые флажки кружева и шелковый стяг с желтыми драконами. Сентябрьская ночь была нежна к ним. Они тихо смеялись, и их легкокостные фигуры быстро уменьшались, исчезали из виду.
Их переполняла тревожная сила, подбрасывала над землей, дарила простор и теснила дыхание. Юные, но не взрослые, они ощущали себя иначе, и Кася дала их чувствам имя. Меня не было рядом с ними в ту ночь, когда они назвали себя ведьмами, назвали сестрами. Новая игра пришлась им впору и по вкусу.
Никто не знает, как они отпраздновали свое зеленое крещение, но вернулись уже иными.
Они стали держаться ближе, говорить тише, касаться невесомо. Игра, выйдя на новый виток, связала их невидимыми нитями. И Кася была уверена, что узел покоится в ее руках.
Они убегали каждую ночь, и каждую ночь мои окна провожали их взглядом. Они возвращались с запахом костра в волосах, с красными листьями, приставшими к обуви, с паутиной, заблудившейся в кружеве. О чем пели они, под какие мелодии водили хороводы на поляне? О чем просили ветер и звезды?
Мне остается только угадывать, а угадывать я умею.
Подступившие холода загнали их обратно, но им уже было тесно. По коридорам пансиона не пробежаться с радостным воплем, похожим на птичий крик, не снять жестких туфель, чтобы пропустить землю и былинки между пальцев. Не распустить волосы.
Нерастраченная энергия губительно сказывается на юных существах. Поэтому им нужно иногда выпускать ее, как больную кровь.
Они вспоминали приметы и легенды, отыскивая признаки неведомого в обыденном. Слух и зрение обострились, желая запечатлеть как можно больше необъяснимых явлений, чтобы разделить их с сестрами. И пусть у них нет никаких доказательств – эмоции заменят все.
Они играли в безобидные игры, основанные на фантомных ощущениях и легком самогипнозе. Чудеса кололи им пальцы.
Кася так же служила медиумом, все ближе к сердцу принимая свою миссию. То, что раньше было для нее способом привлечь внимание, понемногу обретало новый смысл. Она вбила себе в голову, что обязана не просто общаться с душами умерших, но и помогать им находить утешение. Впрочем, поиск великой миссии, предназначения, как проявление общечеловеческого стремления к детерминизму, зачастую остро проявляется в этом возрасте. А подкрепленный патологией – представляет особенный интерес.
Но именно эта особенность привела ее к гибели.
Тем не менее следует отметить, что события не приняли бы настолько драматичный оборот, если бы не воззрения пани Ковальской, директрисы пансиона Блаженной Иоанны. Все же нельзя преуменьшать роль человека, в чьих ладонях лежат девичьи судьбы.
Судьба не слишком ласково обошлась с этой женщиной, впрочем, как и со многими другими. Но ей удалось встать на ноги, подняв на плечах собственное дело. Капитал, оставшийся от мужа, она полностью вложила в пансион – ремонт, наем наставниц и хвалебные статьи, разлетевшиеся по журналам. Позже появились и другие, кто захотел вложиться в закрытую школу. Малгожата Ковальская – человек, построивший себя сам, сложивший личность по кирпичику, не сгибаясь под тяжестью ответственности. Но именно постоянные испытания воли иссушили ей душу, сделав непримиримой к чужим слабостям.
Превыше всего пани Ковальская ценила три вещи: догмы, дисциплину и деньги. То есть все то, что чуждо юности, только если она ничем не изуродована.
Так появилась система наказаний, не противоречащая закону. Нельзя бить? Но можно унизить. Раздавить, уничтожить, разобщить.
Самих девочек, когда они начинали превращаться в девушек, полагала больными чем‑то вроде кори. По ее мнению, они нуждались в контроле, изоляции и игнорировании капризов. К «капризам» относилась любая мелочь: от ежемесячных недомоганий до дерзкого взгляда, а дерзостью считалось все, что не окрашено смирением и виной. Если подвести итог, то пани Ковальская, при всех ее достоинствах, была самым неподходящим человеком, которому можно было доверить свою дочь или воспитанницу.
Моим крапивным принцессам в ту пору исполнилось пятнадцать лет. Развернувшись, их листья наткнулись на стеклянный купол и пристальный, неприязненный взгляд над ним.
Правила можно не нарушать или обойти на цыпочках, когда знаешь о них достаточно долго. Сложнее всего заставить слушаться непокорные мышцы лица, так и норовящие показать истинные эмоции; погасить гнев в глазах; удержать рвущийся голос. И чем сложнее было им контролировать себя, тем строже становился контроль. Пани Ковальская вполне справедливо считала пансионерок третьего года обучения самыми нестабильными, даже опасными, а потому приставила к ним сестру Беату.
Плотная, как бочонок, с мощными руками и цепким взглядом глубоко посаженных бледно-желтых глаз, – она была повсюду. Сестра Беата сидела с вязаньем на каждом уроке, вставляя замечания и одергивая девиц за каждую мелочь. Она обходила спальни, вторгаясь в самый сонный час, с ворчанием подтыкая одеяла и укладывая поверх них руки девочек – строго вдоль тела. Монахиня могла в любой момент зайти в умывальню, чтобы удостовериться, что никто не раздевается полностью и не слишком пристально смотрит на себя в узкие зеркальца, размещенные над эмалированными раковинами.

