– Жил у братов, – смежил глаза Угрюм. – У них мясо, варенное на кизяке, куда-куда!
– Какое Бог дал, такое едим, – озлился вдруг Иван. Мотнул головой с заледеневшими глазами: – Мне-то скажешь правду?
– Скажу, ничего не скрою! – оглядываясь, смущенно пообещал Угрюм. Вскинул глаза на брата: – Только ты призовешь ли Бога во свидетели, что до самой кончины своей никому не откроешь того, что скажу тебе.
– Призову! Ей-ей, – неохотно пожал плечами Иван и перекрестился. – Никогда бес не мучил выдавать чужих тайн.
– Слушай же! – чуть волнуясь, начал брат.
Вскользь он упомянул о промыслах в верховьях Мурэн. Как его, обнищавшего после пожара, сманил к себе в улус князец Куржум. Прельстил не только халатом и сапогами, но и надеждой на сытую, спокойную жизнь, которая тогда уже не представлялась промышленному среди русских сибирцев.
Непривычный к верховой езде, Угрюм ерзал в своем седле с холки на холку и думал только об одном: как сделать другое – мягче, удобней и красивей. Если балаганцы пускали коней рысью, его кобыла тоже переходила на тряский бег. Угрюм багровел от боли в паху, тянул на себя недоуздок или поддавал плетью, чтобы кобыла перешла на галоп.
Баатар Куржум и десяток его молодцов, вооруженные луками и пиками, два дня ехали пологим левым берегом Ангары. Каменистый яр противоположного берега стал положе, лес реже. На другой стороне реки открылась холмистая степь. Лошади вынесли людей к месту, где на отмели обсыхали бревна плота из неошкуренного леса.
Молодцы Куржума спешились, волосяными веревками привязали к седлам по бревну, гужом потянули их против течения реки до поворота с длинной песчаной отмелью. Там они связали бревна. Спешился и сам Куржум, важно взошел на плот, завел на него своего всхрапывающего жеребца. Его люди сложили пожитки, оружие, седла. Своих коней они связали в один повод.
Молодой толстый балаганец, на заводном жеребце без седла, зарысил с караваном по песчаной косе. Кони все глубже погружались в воду и наконец поплыли, вытягивая над водой ноздри и прядая острыми ушами. Толстый балаганец весело орал и охал, показывая, как холодна вода. Плот тоже отчалил. Все, кроме князца, проталкивали его шестами, пока позволяла глубина реки, затем течение понесло его на стрежень и дальше, к противоположному берегу. Все стали дружно грести шестами и гребли, пока один из молодцев не вскрикнул, достав дно. Кони уже выходили из воды, отряхивали шкуры и весело махали мокрыми хвостами. Толстый балаганец с посиневшими пятками прыгал на песке, орал, требовал свои штаны и сапоги.
Многотрудное дело было сделано. Мужики долго сушились, валялись на солнце и грызли сухой творог. До вечера было далеко. Заскучав, они оседлали отдохнувших лошадей и поехали в обратную сторону другим берегом. Лес сменился обширными полями, окаймленными пологими склонами гор с лесом по хребтам. Здесь резко, как в степи, пахло скотом. Вскоре завиднелись юрты с пасущимися стадами. И такой мирной, такой беззаботной показалась Угрюму жизнь кочевников, что он им позавидовал, вспоминая о вечной промышленной нужде, о нескончаемой изнурительной работе.
Прошел месяц. Угрюм прижился среди балаганцев. Своего дархана у них не было. Пришелец был окружен уважением и заботой. Куржум подселил его в семью родственника, невысокого, но дородного братского мужика, имевшего четырех дочерей. Звали его Гарта Буха.
Жили балаганцы спокойно и сытно, не изнуряя себя ни постами, ни молитвами. И только в дожди или в бури, когда мог уйти и погибнуть скот, все мужчины выходили к стадам, бедствовали ночами, а то и сутками. Но налаживалась погода, и снова начиналась беззаботная жизнь.
Угрюм жил с семьей Гарты в войлочной юрте. Домочадцы поднимались поздно, он вставал первым, тихонько шел к речке, умывался, крестился и кланялся на восход, читая утренние молитвы. Затем направлялся к своей кузнице с навесом из жердей, покрытых войлоком. Раздувал горн, доставал припрятанный инструмент: клещи и молот, сделанные из ствола обгоревшей пищали. Навешивал на разгорающийся огонь черный котел с водой.
Из юрты выползала заспанная и сердитая девка, средняя дочь Гарты по имени Булаг. Угрюм звал ее Булкой: так называли хлеб черкасы. Девка напоминала ему что-то круглое. Ее щеки колобками топорщились на широком лице. Из них едва высовывался остренький кончик носа. Глаза у девки были узкие и непомерно длинные. Распахнутыми крыльями морской птицы они взлетали от плоской переносицы до самых висков.
Среди балаганцев не принято было, чтобы мужчина готовил себе пищу. Наверное, отец приставил Булку в помощь дархану, и девка, сонно жмурясь и злясь на ранний подъем, ставила перед ним кувшин с молоком, деревянное блюдо с сушеным творогом. Исполнив свой долг, она уходила в юрту досыпать утренние часы. При этом смешно семенила короткими ножками, переваливаясь с боку на бок.
Угрюм смотрел ей вслед, попивал жирное, густое молоко и посмеивался над убеждением русских промышленных людей, что среди инородцев их ждет только рабство.
Слегка томясь приятным бездельем, он шел собирать кизяк, на котором железо грелось лучше, чем на обычном костре, или уходил рубить березу на древесные угли. Работы было немного, он делал ее быстро и весело. Радовался, что язык балаганцев становится ему все понятней.
Свое седло он подарил Гарте и сразу стал делать новое. Но и его пришлось подарить знатному мужику, так как своего коня все равно не было. Вскоре Угрюм высмотрел на соседнем стане молодую крепкую кобылу. Несмело поторговавшись, купил ее за пятнадцать соболей и привел в стадо Гарты. Теперь можно было делать седло для себя. На его работу уже никто не зарился: есть лошадь, нужно седло. Все было ясно и понятно.
Случались несуразицы. Как-то утром, маясь бездельем, Угрюм с мешком в руках стал собирать прошлогодние лепехи кизяка для кузницы. Его заметили из юрты. Прибежала Булка, вырвала мешок из его рук и стала собирать кизяк сама. Угрюм ходил рядом с ней, пытался помочь. Но девка обиженно вскрикнула, указывая рукой на стан: «Туда иди, не лезь не в свое дело!»
Остренький кончик носа смешно высовывался из пухлых щек. Тряслись полные губы, дрожал кругленький подбородок, а в глазах блестели слезы.
В благодарность за заботу о себе Угрюм выковал для нее браслет из старого, продырявленного медного котла и украсил его простеньким узором. Он долго тер медь войлоком, и безделушка заблестела как золото. А когда утром пришла Булаг, чтобы накормить дархана, тот взял ее руку и надел браслет на запястье. Девка ахнула. В поллица распахнулись ее глаза-крылья, и Угрюм заметил, что они у нее не черные, а темно-карие.
Булка убежала в юрту веселой и счастливой. Весь день она угождала кузнецу и бросала на него ласковые взгляды. Но уже к вечеру Угрюм приметил, что чем-то рассердил семью Гарты. Сестры Булки поглядывали на него озлобленно. Их отец досадливо хмурился. Непонятный холодок появился даже между ним и Булкой. Вскоре прискакал косатый молодец из свиты князца. В поводу у него шла оседланная заводная лошадь. Посыльный велел дархану ехать к Куржуму.
Ничего не понимая, Угрюм отправился на стан баатара. Поджарый, как тунгус, долгоносый и большеглазый князец в простом халате, без оружия, стоял возле туши забитого бычка и советовал домашним, как его разделывать. Он обернулся к подъехавшим всадникам, приветливо взглянул на своего дархана.
Вестовой еще в пути растолковал Угрюму, что князца замучили жалобами племянницы: им хотелось иметь браслеты, как у сестры.
– Сделай всем украшения! – приказал Куржум, когда кузнец спешился и поклонился ему.
Угрюм понял его слова. Про награду князец умолчал. Поэтому, плутовато ухмыльнувшись, кузнец стал говорить и объяснять знаками, что старого котла не хватит, нужна медь. Князец ушел в белую юрту. Сын или племянник-отрок вынес стертую медную бляху с конского нагрудника, сунул ее в руки кузнеца. На том разговор был закончен.
Как всегда, окруженный толпой чернявых любопытных ребятишек, Угрюм, не спеша, сделал еще три браслета. Мир среди сестер наладился. Но кузнеца за работу никто даже не поблагодарил.
Вскоре Гарта Буха отдал замуж двух старших дочерей. В юрте стало просторней. Угрюм присматривался к обычаям здешнего народа и находил их разумными, хотя не все ему нравилось.
Родня женихов пригнала в дом свата десяток кобылиц и столько же коров. Сверх того за невесту была дана отара овец и другие подарки. Три дня на стане пировали. Старики пили тарасун и хорзо[48 - Хорзо – молочная водка, простая и крепкая, после тройной перегонки (бур.).]. Жениху и молодым гостям позволяли пить только квашеное молоко, дескать, им и так весело от их молодости. Все подарки были отданы молодым супругам. Сверх того прибавлено от дома отца.
На Руси если молодец-удалец забрюхатит девку до замужества, той от позора хоть в петлю. А если она родит несчастного нагулянного ребенка, сородичи даже его внукам будут припоминать, что они бл…ны дети. Здесь, в степи, если девка рожала младенца, то без скандалов и упреков родители брали его на свое воспитание и выделяли долю из наследства. Дочь же выдавали замуж как всякую девку без приплода. А не жилось молодым супругам, так они разводились. Спорили не столько из-за обид, сколько из-за подарков, полученных со стороны родни мужа и жены.
Примечал Угрюм, что народ, среди которого он жил, весел и шутлив с единоплеменниками. Гости из других родов тискали девок и отпускали такие шутки, за которые на Руси родня непременно полезла бы в драку. В лучшем случае за подобные намеки русские девки выцарапали бы глаза своим парням.
Между тем чем больше понимал Угрюм балаганцев, тем меньше ему хотелось показывать, что он знает их язык.
После сытного, жирного обеда вся семья Гарты лежала в юрте. Войлок со стен был поднят. Потное тело с радостью ловило всякое дуновение ветра. Гарта, почесывая тучный живот, то всхрапывал, то начинал говорить, зевая, и все шутил с дочерью Булаг, которой подходила пора идти замуж.
– Что скажешь, красавица? Дырка под животом не сильно чешется? – спрашивал посмеиваясь.
Булаг строптиво фыркала. Необидчиво отвечала:
– Нет еще! И женихи хорошие не приезжали.
– Может, за нашего кузнеца тебя отдать? – похохатывал отец, думая, что Угрюм его скороговорки не понимает. – Он на голову выше всех наших женихов. Сыновей от него родишь высоких, красивых.
Булка снова фыркала:
– У него лицо мохнатое, как у медведя! Не пойду за медведя!
Жена Гарты, с рыхлым черным лицом, посеченным неглубокими морщинами, поддерживала мужа, не то искренне, не то шутя, – этого Угрюм не понимал.
– Дом сделает теплый. У него руки масляные. Шаманов злые духи мучают, а дарханов – боятся.
– Не пойду ни за шамана, ни за дархана! – фыркала Булаг.
Отец и мать с ней соглашались. Начинали расписывать достоинства другого жениха, которого Угрюм не знал. И так, пока опять не всхрапывали.
Угрюм сбился со счету дней и праздников. Судя по траве, был август, Спас. От Куржума опять приехали два молодца. В пути сказали, что князец зовет толмачить. К нему, дескать, прибыли люди-зверовщики.
Угрюм вошел в белую юрту, поприветствовал балаганцев по их обычаю, приметил сидевших напротив Куржума трех русских промышленных. Лица их были темны от солнца, бороды выгорели желтыми прядями. Захлестнуло сердце знакомое до боли пережитое бездолье пути.
Промышленные мельком, отчужденно, взглянули на толмача как на чужака. Их неприязнь больно кольнула Угрюма. Он сел, куда указал князец.
– Дело к зиме! – хмуро и важно объявил старший из гостей, передовщик в русой бороде. – Шли мы на Елеунэ. Но пора уже к зиме готовиться. Мы бы промышляли до весны соболишек и другую рухлядь за горами в лесу. Зимовье бы там поставили и жили бы до весны. А вам бы после промыслов сорок соболей дали, чтобы жить без ссор и обид.
Угрюм выслушал их, перевел как сумел. Куржум с важным и строгим видом переговорил со стариками, сидевшими по бокам и за его спиной. Те советовали спросить с чужаков соболей вдвое.
Передовщик выслушал Угрюма, недоверчиво, с подозрением блеснул глазами, никак не признавая родства по крови, хотя у толмача поверх халата висел кедровый крест.



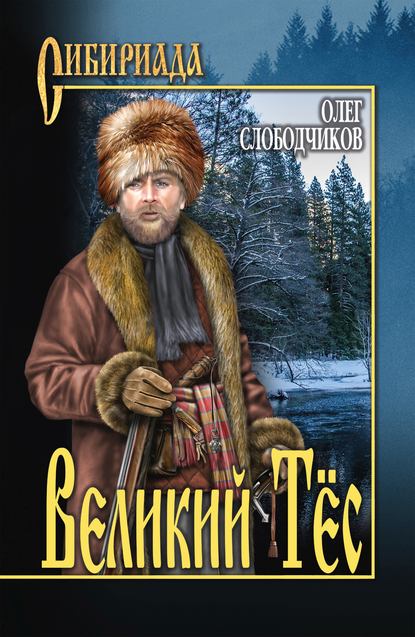




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0