Дело в том, что Одуев стал недавно вести по учебной программе цикл передач для школьников «Гений чистой красоты» – об адресатах любовной лирики русских поэтов, и его начали узнавать в метро, чем он страшно гордился и даже старался на улицу выходить в той же куртке, в которой вел передачу. Но настоящая слава все-таки пришла к нему позже, когда он опубликовал свою знаменитую книжку «Вербное воскресенье».
– Видел, – сдержанно ответил я. – Неплохая передача.
– А Стелка говорит: «Я тебя с разными соплюшками делить не собираюсь! Раз ты такой мерзавец, ищи мне мужика на замену. Самой мне некогда и негде…» Понять-то ее можно: у них же там на телевидении сплошной «Голубой огонек», вроде нашего теоретика! И потом, женщина она требовательная, привередливая, с кем попало не заведется! Я уж месяц чуть не каждый день смотрины устраиваю. Никто ей не нравится. Сегодня, как этого Тер-Иванова увидела, на кухню меня вызвала и чуть не избила, кричала: «Кого подсовываешь! Я себя что, на помойке нашла?» Я так растерялся, что с испугу Любченке позвонил… А потом про тебя вспомнил! Кажется, понравился ей твой бармалей! Чудные они, бабы, ей-богу!
– Теперь осталось, чтобы твоя Стелка моему бармалею понравилась. Он себя тоже не в мусоропроводе нашел!
– Да ладно! Ты объясни, что она его по телевизору покажет. За это можно потерпеть. Я же терпел! Отдаю ему Стелку, но при одном условии…
– При каком условии?
– Когда она его в эфире будет спрашивать, кого он больше всего ценит из современных поэтов, он должен назвать меня…
Мы вернулись в комнату. Стелла ласково гладила бедного Витька по голове, Тер-Иванов мрачно курил свою вонючую «Приму», а слабенькая Настя задремала, уронив головку на руки. Любин-Любченко все еще говорил:
– …запрет на смешанную пищу распространен почти среди всех народов. Особенно это касается смешения мясного и молочного. Конечно, такую устойчивую традицию можно объяснить и симпатической магией: вскипятишь молоко – повредишь корове или, скажем, козе: не будет удоя… А если сваришь козленка в молоке матери его…
– Не будет козлят! – радостно вставила Стелла.
– Совершенно правильно! – удовлетворенно облизнулся теоретик. – Однако последние исследования наводят на мысль, что запрет на смешанную пищу – это, скорее всего, зашифрованный символ взаимного отчуждения носителей разного типа хозяйствования – земледельцев и скотоводов и шире – разных типов культуры… Вы это имели в виду, Виктор?
– Амбивалентно, – без подсказки ответил тот.
– Амбивалентно? – удивился Любин-Любченко и посмотрел на моего друга с безнадежным восхищением. – Попробуем тогда взглянуть на эту проблему с другой стороны. Козел в символической философии ассоциируется с дьяволом. Но помимо этого он является также мистическим знаком отца…
Расходились утром, когда за окном посерело, точно кто-то развесил выстиранные солдатские подштанники. Настя так и не проснулась – ее перенесли на диванчик и укрыли пледом. Не знаю, снилась ли ей в этот момент дорическая колонна, но на пухлых детских губах играла безмятежно-счастливая улыбка. Тер-Иванов, нещадно куря, писал на листочке бумаги какие-то сложные математические расчеты: в разговоре выяснилось, что по профессии он инженер-сопроматчик, и Одуев попросил его рассчитать, сколько понадобится тротила, чтобы взорвать Мавзолей. Я попытался вмешаться, но ведущий передачи «Гений чистой красоты» метнул в меня холодный взгляд, означавший – не мешай работать. Я понял, что несчастного поэта-практика он из своих рук уже не выпустит. Любин-Любченко, окончательно убедившись, что бороться со Стеллой бесполезно, зачем-то оставил Витьку свой телефон и уехал – часа в четыре. Акашин тоже уже начал клевать носом, и я, чтобы взбодрить, вызвал его на кухню и дал ему приложиться к бутылке с «амораловкой».
На улицу мы вышли втроем. Машину поймали довольно быстро. Усадив Витька со Стеллой, я уточнил, где именно в Коньково она живет, и спросил водителя, во что обойдется мне это свадебное путешествие. Шофер критически осмотрел мою одежду, оценил степень моего алкогольного опьянения, потом оглянулся на пассажиров, задержавшись взглядом на Стелле, все норовившей залезть рукой под Витькину майку с надписью LOVE IS GOD, и назвал чудовищную сумму. Вздохнув, я расплатился.
– А ты? – испуганно вскричал Витек, сделав попытку выбраться из машины.
Совместными усилиями мы его удержали.
– Порошка купи, гад! – успел крикнуть Акашин перед тем, как автомобиль рванул с места.
А я, побренчав в кармане оставшейся мелочью, отправился к ближайшему метро. По пути я думал о том, что если в иссушенной социалистическими экспериментами России хоть в ком-то и остался дух здорового предпринимательства и рыночного мышления, то это, без сомнения, таксисты. С них, должно быть, и начнется возрождение Отечества.
18. Бостон – город хлебный
Добравшись домой, я завалился спать. И мне снова приснилась Анка, но одетая почему-то наподобие Стеллы во все кожаное – даже на руках у нее были длинные перчатки. Анка сидела в моей комнате, за моим письменным столом и печатала на моей «Эрике» под мою диктовку. А я ходил из угла в угол, курил, как Тер-Иванов, одну сигарету за другой и диктовал мой «главненький». Мною владело то упоительное, восторженное, редчайшее и потому особо памятное любому пишущему человеку состояние, когда кажется, что ты можешь все, когда твое стремительное, безжалостное, когтистое слово бросается на зазевавшуюся мысль, как коршун на куропатку, когда придуманные тобой люди начинают жить своей собственной непридуманной жизнью, а ты сам вдруг становишься для них чем-то вроде судьбы, античного рока, милующего или перемалывающего, когда ты ощущаешь себя бессмертным, ощущаешь еще даже острее, чем в объятиях любимой женщины. Но, упиваясь своим задыхающимся бессмертием, ты боишься только одного – внезапно умереть и не закончить работу. Да, умереть и лежать под презрительными взглядами прохожих на заплеванной и замусоренной окурками обочине, словно чудище из «Аленького цветочка», которое только-только начало превращаться в юного принца, но так и сдохло, недопревратившись… (Ай да я! Ай да сукин сын! Запомнить.)
Но сон был не об этом, а вот о чем. Диктуя, я шагал из угла в угол, каждый раз на какое-то мгновение поворачиваясь к стучащей на машинке Анке спиной, и вот когда в очередной раз я оказался к ней лицом, то от неожиданности замолчал на полуслове: она сидела на табурете совершенно голая – только «командирские» часы блестели на тонком запястье. Тело у нее – долгое, нежное, загорелое, с узенькой светлой поперечной полосочкой от купальника. Она оглянулась на меня, призывно изогнулась, точно от затылка к ямке между ягодицами протянулась невидимая тугая тетива, и облизнула губы. «Ты любишь меня?» – дрожащим голосом спросил я и начал торопливо и бестолково раздеваться. «Скорее нет, чем да…» – покачала головой Анка. «Я люблю тебя, люблю тебя!» – задыхаясь, повторял я, стаскивая с ноги ботинок. «Обоюдно!» – ответила она, по-кошачьи потягиваясь. Наконец, сняв последнее, я бросился к ней и вдруг увидел, что она снова одета, на руках снова длинные перчатки и она продолжает быстро стучать по клавишам, хотя я давно уже не диктую. Потом внезапно Анка остановилась, повернула голову и с мучительным вниманием посмотрела на мою постыдно и неуместно напрягшуюся плоть – и начала хохотать, сначала хрипло, пытаясь подавить смех, потом, откинув голову, все громче и беспощаднее… Я покраснел и попытался закрыть руками свое осмеянное вожделение, а она все продолжала хохотать…
Разбудил меня, как обычно, Жгутович:
– Привет! Прошу отметить, что специально звоню тебе днем, дабы не потревожить твой почтенный сон!
– Спасибо, ты настоящий друг… А который час?
– Без десяти два. Работаешь?
– На износ… Чего надо?
– Ты звонил Арнольду?
– Нет еще…
– Позвони!
– Сейчас.
– А как там наш… твой Витек?
– Я сдал его на ценное хранение.
– Кому?
– Скоро узнаешь. А что ты так волнуешься?
– Я не волнуюсь. Я переживаю. Ко мне в магазин утром заходили несколько писателей, сказали, что Кипяткова нашла какого-то гения. По приметам похож на нашего… на твоего Витька!
– А я тебя честно предупреждал.
– Еще был Медноструев. Ругал масонов и евреев, но предупреждал, что из Сибири приехал какой-то молодой парень, который всем им скоро утрет нос.
– Интересно!
– Еще был Ирискин. Намекнул, что познакомился с одним очень талантливым юношей, который скоро утрет нос Медноструеву… Неужели они все имели в виду Витька?
– А кого же еще? Ты читаешь энциклопедию-то?
– Дочитываю… А как ты думаешь, в Советском Союзе есть масоны?
– Точно не знаю, но по полезным ископаемым мы на первом месте. Должны быть.
– Мне тоже так кажется. Ну, пока… Позвони Арнольду!
Он повесил трубку. Я чертыхнулся, вспоминая сон, и пошел в ванную. Умылся. Налил воды с пенящимся шампунем и нырнул в этот теплый сугроб. Со стороны я, наверное, был похож на наполеоновского солдата, оставшегося в коварных снегах России. Я лежал и думал, думал о том, почему таки Анка приснилась мне сидящей за пишущей машинкой. Почему она приснилась мне голой и хохочущей – понятно. Объяснимо даже то, почему сначала одетой, потом обнаженной и снова одетой: она любила позлить меня. Но почему за машинкой? Она никогда мне не печатала! В ванной я так ничего и не надумал, а вот завтракая пельменями с чаем, я все-таки понял, в чем дело! Мне всегда хотелось иметь настоящую писательскую жену. Кстати, со своей первой супругой я – подсознательно, конечно, – разошелся именно по этой причине. Она была ненастоящей писательской женой: ей было скучно слушать мои разглагольствования о смутных творческих замыслах и мои искрометные суждения о том, что Пруста можно дочитать до конца, если только ты парализован и по этой причине ничего другого делать не в состоянии. Мне хотелось, чтобы она тайком записывала за мной и складывала записи куда-нибудь в заветную женскую коробочку. Смешно, конечно, но мне очень этого хотелось! Я бы, заметив, как она записывает, подшучивал над ней, называл ее записи «Евангелием от Матвеихи» и был бы счастлив! Но она относилась к моей профессии с терпеливой брезгливостью, как к неопасной, но неприятной болезни, вроде псориаза, когда раза два-три в год все тело обсыпается огромными шелушащимися болячками. Скрепя сердце на редакционные звонки она еще как-то отвечала, но чтобы сесть за машинку – об этом не могло быть и речи. И не потому, что я был непечатающимся литературным ничтожеством! Если б она была замужем за Достоевским, точнее, будь я Достоевским, она все равно, входя в комнату, некоторое время иронически смотрела бы, как, склонившись над столом, я сочиняю, допустим, «Бесов», потом вздыхала бы и говорила насмешливо: «Федор Михайлович, а картошка-то тю-тю – кончилась!»
Значит, это был просто сон о настоящей писательской жене! Вроде жены этого травматологического верлибриста Неонилина, которая берет трубку и говорит, всегда умирая от гордости: «Извините, муж не может подойти – он работает!» И я сразу представляю себе, как Неонилин работает – выжимает из двух своих оставшихся при исполнении извилин бездарную верлибрятину, точно мыльную воду из перекрученного белья! Но настоящую писательскую жену – в самом подлинном смысле этого слова – я встречал только один раз в жизни. Речь, конечно, о знаменитой супруге прозаика Бодалкина! Это была уникальная женщина: ее можно было часто встретить в издательстве, сидящей вместе с редактором над рукописью своего мужа, или в бухгалтерии, возмущающейся издевательски низким гонораром, или в приемной Николая Николаевича – пришедшей требовать дачу в Перепискино… Иногда она появлялась вместе с мужем и напоминала при этом заботливую сестру, выведшую на прогулку своего беспомощного братца-дауна, который, вопреки сложившейся психиатрической традиции, не пускал радостные слюни, но задумчиво курил дорогую английскую трубку.
Она даже на писательские собрания ходила вместо него, объясняя, что муж обдумывает новый роман и никак не может прийти сам. Кстати, это обстоятельство очень выручило Бодалкина во время знаменитой травли Пастернака. Когда всех мало-мальски приличных писателей заставляли ругать бедного автора «Доктора Живаго», жена, выскочив на трибуну и сославшись, как обычно, на занятость мужа, так отчихвостила Бориса Леонидовича, что вскоре им выделили давно уже обещанную квартиру в писательском доме. Рассказывают: уже плохо соображавший Брежнев, вручая в Кремле прозаику Бодалкину орден, по ошибке чуть было не приколол его к груди этой самоотверженной писательской жены, конечно же, пришедшей на вручение вместе с мужем.
Забегая вперед, скажу: когда разразилась гласность, писателям, громившим Пастернака, стало мучительно стыдно и они начали виниться. И тут Бодалкина заявила, что к тому выступлению ее муж, обдумывавший роман, не имеет никакого отношения, что это было ее глубоко личное мнение, в котором она, разумеется, раскаивается.
И тогда выяснилось: Бодалкин единственный из писателей старшего поколения не имеет прямого отношения к мрачным временам идеологического насилия над свободным художественным словом. На попытки завистников через прессу доказать, будто в данном случае чрезвычайно уместна поговорка «Муж и жена – одна сатана», Бодалкина остроумно ответила тоже через прессу, что хоть муж и жена – едина плоть, но не един мозг!
И вдруг, понервничав из-за того, что вместо обещанного восьмитомного собрания сочинений мужу выделили всего-навсего шеститомное, она скоропостижно скончалась. Хоронила ее вся литературная Москва, трогательно прощаясь с единственной и последней настоящей писательской женой. Вскоре после этого я встретил Бодалкина в Доме творчества «Перепискино» – румяного, бодрого, с неизменной английской трубкой в зубах. Напористый старичок приставал к официанткам и шумно ругался по телефону с издателем, готовившим к выпуску его воспоминания о том, как он не травил Пастернака. Это, кстати, была последняя работа, в которой ему помогала покойная супруга. Больше он так ничего и не написал. «Видите ли, – объяснял мне в баре Бодалкин за рюмкой водки, – работали мы так: я диктовал, а она печатала на машинке. Потом правила. Потом несла в издательство. Потом держала корректуру. Потом приносила домой сигнальный экземпляр, который я, конечно, не читал, чтоб не отвлекаться от следующего романа. Вы не представляете, какая это была женщина! Она даже с девушками меня знакомила, когда видела, что я закисаю. Такой жены у меня больше уже не будет…»



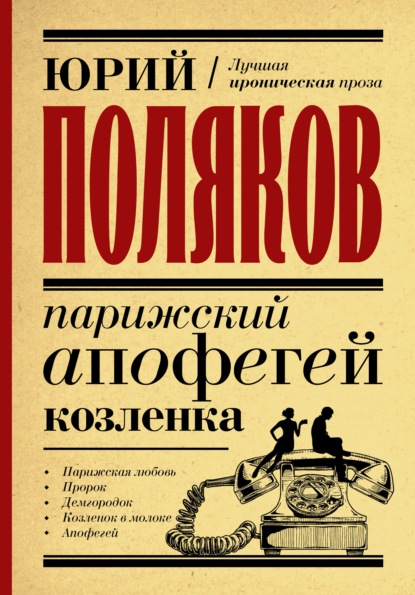




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0