Трудно сказать, почему писателю Сергееву вдруг так отвратителен стал Эквадор. Чернявых и в Персии сколько угодно. Да их и в Японии тоже полно. И вот Кишинев еще есть с Черновцами. Вообще, если пристально все осмотреть, так этих чернявых, как и белокурых, везде развелось до того, что ноге ступить уже некуда. Ступишь, а там какой-нибудь очень уж прыткий сидит, усы гребешком расчесал, зубы вычистил. Нет, выход один: запереть и стеречь. И всем хорошо, все довольны и счастливы.
Лето между тем приближалось, и Валентиночка, скупившая у фарцовщицы Доры все, что та успела приобрести у моряков и летчиков, стюардесс, балерин, руководителей разных ансамблей, клоунов, циркачей, скрипачей, у жен пианистов и их домработниц, – нарядная, как Первомай, Валентиночка взялась совершенно открыто мечтать о Карловых Варах, Пицунде и Пярну.
– И что тебе Пярну? Зачем тебе Пярну? Куда тебе в Пярну? Вот ты объясни! – не выдержал как-то писатель за ужином.
– Но, Яша, там, в Пярну, живет сам Самойлов! А море какое! Продукты! Песок!
– Вот пусть твой Самойлов там и наслаждается! – не выдержал он. – А мне нужно работать!
Валентиночка заморгала глазами и заплакала. Яков Сергеев посмотрел на ее склоненную голову с почерневшим среди красновато-лиловых прядей пробором, на ее маленькие руки с суховатой, старческой уже кожицей, кое-как натянутой на слабые косточки, и ему стало жаль ее, как молодому удальцу-сыну, живущему в городе, жаль своей мамы, весь век скоротавшей в деревне за прялкой.
– Да ладно тебе! Хочешь в Пярну? Поедем! Опять эти взбитые сливки лакать? Меня потом год от них будет тошнить!
– Самойлова вон не тошнит…
– Он привык! – не выдержал резкий писатель Сергеев. – На сливках стишки хорошо сочинять, а ты вот попробуй роман! Фиг напишешь!
Одновременно с этими событиями у мамы Полины зародился план: нужно самой познакомится с этим, так сказать, «другом» дочери и прощупать, есть ли у него хоть сколько-нибудь серьезные виды на доверившуюся ему невинную девушку. То, что мама совершенно искренно считала Полину невинной, никак не противоречило реальности, поскольку невинность – не факт биографии, а просто врожденное свойство натуры. Полина была и добра, и невинна, а то, что судьба с нею так обошлась, так вот у судьбы и спросите при случае.
– Я думаю, Попелька, – сказала однажды мама, тщетно пытаясь поднять съехавшую петлю на только что купленных утром колготках. Колготка ей сопротивлялась. – Я думаю: раз твой отец не помощник, – и мама скривила брезгливые губы, – давай пригласим, ну, его, нам помочь: на даче баллон нужно газовый вставить. А я не умею. Там нужно крутить. Всегда твой отец это делал.
– Но, мама! – Полина схватилась за щеки. – Ты что! Какие баллоны, какой еще газ! Нам сторож поможет. При чем же здесь он?
– Плевать мне на газ. Но я – мать твоя, так? – И мама расправила сильные плечи. – Имею я право, поскольку я мать, хотя бы увидеть его или нет? В конце концов, может быть, он негодяй? А может быть, он сексуальный маньяк? А может быть, рецидивист-уголовник? Любой может взять и сказать: «Я писатель». Буквально любой. И поверят, учти. У нас люди очень доверчивы, слишком. Иначе бы не было столько писателей!
– Но я не могу к нам его привести. Да он не пойдет. Он ведь нас с ним скрывает.
Полина была вся пунцовой, как роза. А может быть, даже пунцовей ее.
– Тогда пригласи его просто на дачу. Скажи: мол, природа, ну, поле, там, лес. Не все в Переделкине зад протирать, у нас ведь не хуже места. Ведь не хуже?
Полина смежила ресницы.
– Зачем тебе это? Ведь он не жених.
– А кто он тогда? – Мама вдруг взорвалась. – И что ты к нему каждый вечер бежишь? Он, что, прости господи, маг, что ль, какой? Ведь стыдно глядеть на все эти затеи!
– Какие затеи? Что есть, то и есть.
– Короче: такая моя к тебе просьба. Такой мой тебе материнский приказ. А то я сама вам устрою «свиданье»! Ведь надо же: с матерью так не считаться! В конце концов, мать – это вечная ценность! А все остальное – невечные ценности! И ставку на эти невечные ценности тебе не советую, Попелька, делать! Хотя бы на нашем семейном примере могла б догадаться, что значит мужчина! Он враг и предатель, а больше никто! Его разорвать и в помойку! В помойку! И воду спустить! Чтобы больше не всплыл!
Полина взглянула на мать и задумалась. Была ведь когда-то нормальная женщина.
Вечером она с запинкой пригласила своего знаменитого любовника приехать к ним с мамой на дачу: там все расцвело. Любовник ее знаменитый задумался. Засвечиваться он не хотел, это правда. С другой стороны, заглянуть и понять, что это за дача, куда она рвется, какие вокруг там гуляют парнишки, в какие они волейболы играют…
– Приеду! – сказал он, целуя ей шею.
Договорились на пятницу. В выходные нельзя: Валентиночка удивится. Писатель решил повести себя так, как будто он старший товарищ и друг. Приехал по дружбе, был неподалеку.
В ночь с четверга на пятницу Полининой маме приснилось такое, что мама стремглав побежала к соседке, все той же усатой и властной Тамаре. Тамара была толкователем снов.
– Я вижу себя совершенно в воде. Ну, в море, как будто.
Тамара курила вполне равнодушно и дым выпускала из губ в виде шариков.
– Я ползаю будто по дну и ищу в песке, там, на дне, что-то вроде ракушек. И вроде сьедобных.
– Ракушки? А формы какой?
– Большие такие и продолговатые.
– Так-так, понимаю… Ну, что замолчала?
– Вдруг вижу: скала.
– А оттенок какой?
– Оттенок какой? У кого?
– У скалы! Ну, не у меня же, наверное, господи!
Тамара была грубиянкой и часто срывала на людях свой скверный характер.
– Ну, синий почти. Хотя нет! Не совсем. Там черный присутствовал. Черного больше.
– А форма?
– Что форма? Скала как скала.
– Вот каждое слово клещами тащу! Нет, Фрейд бы мне не позавидовал!
– Фрейд? Так он же… – И мама понизила голос: – Он разве же не запрещен, этот Фрейд?
– Мне не запрещен. Продолжай, говори.
– А близко от этой скалы лежит птица. Такая вот тоже: синющая, с черным. Глаза приоткрыты.
– Пернатая, значит, – сказала Тамара.
Полинина мама сглотнула ком в горле.
– Я вроде подумала: «мертвая птичка»…
– Размером какая?
– Кто?
– Птичка! Не я же!



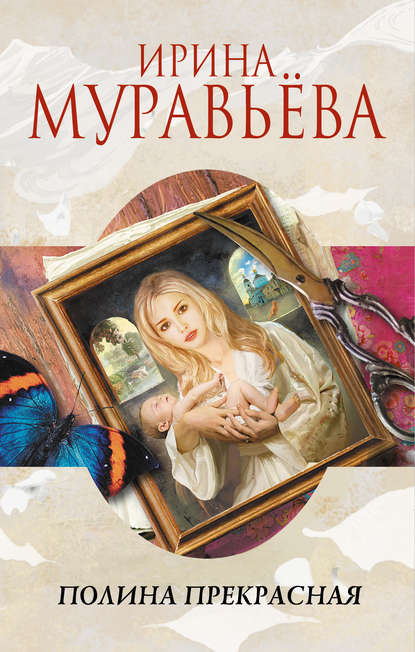




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0