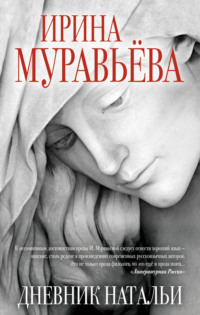
Дневник Натальи

Ирина Муравьева
Дневник Натальи
* * *
15 апреля. Нюра не ночевала дома и пришла в три. Выглядит ужасно: c черными мешками под глазами, измученная. Я смотрю на нее и думаю: что делать? Попробовать опять поговорить с ней? Но сколько можно разговаривать? Она ведь меня не слышит. Никто меня не слышит, кроме Тролля. Иногда приходит в голову, что, не будь на свете Тролля, я была бы ничем не связана. А так – нельзя, он без меня погибнет. Зимой – никогда не забуду – я шла по Смоленской и увидела такое, от чего во мне вся кровь остановилась: свора собак, совершенно одичавших, загнала под машину кошку. Окружили эту машину и сидят. Ждут, пока кошка не выдержит. Минут через пятнадцать кошка выползла – наверное, очень старая, больная, ей уже было все равно. Собаки набросились на нее и разорвали. Люди, которые шли мимо, все отвернулись, никто даже не приостановился, кроме меня.
Тролль – мое счастье, мое тепло. Как он вылизывает мне лицо и руки и мои старые ноги, ужасные старые ноги в тапках!
Может быть, кстати, с ног-то все и началось. В прошлом году мы с Феликсом собрались на дачу к Щ., которого я никогда не любила, но ради Феликса терпела, хотя мне давно казалось, что он шпана, обыкновенная номенклатурная шпана, несмотря на свою знаменитость. И пьесы, которые он пишет, – отвратительное вранье. Возвышенные дамочки в белых шляпах попадают в сомнительные ситуации. Причем за границей, чаще всего в Италии.
Я, наверное, завидую. Иногда я ловлю себя на мысли, что я завидую очень многим: молодым и красивым женщинам, которые проходят мимо по улице, подругам, уехавшим в Америку, завидую умершим…
Мы сели в машину, чтобы ехать к Щ., и вдруг Феликс увидел мои ноги в сиреневых босоножках. Он сморщился, словно проглотил комара, и спросил:
– Скажи, пожалуйста, это что, такая проблема – сделать педикюр?
Я взглянула на себя его глазами. На всю себя – как говорил поэт, «от гребенок до ног». И ужаснулась. Потому что: волосы сухие, вытравленные перекисью, стрижка плохая, шея – в перетяжках, как у гуся, под глазами – лодочки из сморщенной кожи, руки неухоженные. Я увидела старуху, легко раздражающуюся, с плотно сжатыми губами, тускло одетую, молчаливую (о чем говорить-то?), и поняла, что между нами все кончено. Я поняла, что он уже никогда не заметит ничего другого и всегда будет только это: шея, волосы, руки…
Я вылезла из машины, хлопнула дверью. И он быстро отъехал – словно бы с облегчением, словно боясь, чтобы я не передумала.
Мы давно живем молча, каждый сам по себе. У него – своя жизнь, у меня – своя. Cуществуем параллельно. Но когда меня уволили из института, оказалось, что у меня нет никакой своей жизни. Cовсем никакой. Мне некуда стало уходить по утрам и неоткуда возвращаться вечером. Нюра явно тяготится тем, что я сижу дома и мешаю ей заниматься живописью (считается, что она у нас большая художница, вся в папочку!). Кроме того, я позволяю себе переживать за нее. Я переживаю, что она бросила институт, нигде не работает (так, случайные заказы: где рекламу подмалюет, где еще что), переживаю, что у нее богемные и непонятные мне знакомства, что она меняет любовников и часто не ночует дома. Мне все кажется, что ее вот-вот обидят, изуродуют или даже убьют, и часто я часами простаиваю у окна, высматривая ее, когда наступает вечер.
Иногда на меня находят такие острые приступы любви к ней, что впору повеситься, лишь бы не видеть ее отравленного неудачами лица, не принюхиваться к табачному дыму, плывущему из нашей «детской».
Непонятно, кстати, вот что: почему сегодня, пятнадцатого апреля, я вдруг принялась записывать свою жизнь? Тоска, конечно…
Феликс встал часов в одиннадцать, наскоро выпил кофе и, не глядя на меня, сказал, что уходит на весь день в мастерскую. Я вывела Тролля, сходила в магазин, купила йогурт, хлеб и кислую капусту, сварила суп, и тут раздался звонок. Очень красивый грудной голос спросил Феликса. Я ответила, что его нет, но почему-то у меня заколотилось сердце, и я страшно разволновалась. Красивый голос усмехнулся, и в этой усмешке мне почудилось презрение. Тогда я сказала:
– Передать ему что-нибудь?
Вместо ответа она опять усмехнулась – еще презрительнее, но все же очень красиво, музыкально – и повесила трубку. Я набрала номер мастерской, но его там не было, длинные гудки. Я подождала минут двадцать, выпила валерьянки и опять набрала. Он подошел и закричал:
– Алло! Слушаю! Да!
Я помолчала от растерянности (никогда он так не кричит!) и говорю:
– Тебе тут какая-то женщина звонила…
– Да? – спросил он радостно. – Когда звонила?
– Только что, – спокойно сказала я. – Но ничего не просила передать…
Он, видно, справился со своей радостью:
– Ну, так что?..
– Ты собираешься домой? – спросила я.
– Я работаю, – сказал он со злобой. – Ты, наверное, забыла, что это такое?
Намеки! Он все время напоминает мне о моем безделье, все время говорит о том, что один все тянет. Как будто я виновата, что наш отдел закрыли и меня выставили на улицу! Как будто я виновата! И ведь он не только меня попрекает – прямо скажем – куском хлеба! Он все время ноет, что работает как лошадь, ни от чего не отказывается, хватается за все халтуры, чтобы нас прокормить, – он, великий театральный художник! А мы, неблагодарные, ничего не понимаем, загоняем его в могилу. И квартира, в которой мы живем, принадлежала его покойной матери, балерине Большого театра, она на свои деньги построила этот кооператив. А я (будь я разумной!) должна бы сдать дачу, доставшуюся мне от отца и деда. Дворянских гнезд больше не существует. Раз нужны деньги, значит, нечего хлюпать, а надо найти жильцов и сдать дачу. Это он так говорит, а я отмалчиваюсь. Дача формально принадлежит мне.
Сегодня я поняла, что он не просто изменяет, – а то я не догадывалась, что он мне изменяет! – сегодня я поняла, что он влюблен в кого-то, мучается, надеется, короче – у него открылось второе дыхание и моя песенка спета.
Нюра поела на кухне – тарелку не вымыла, спасибо не сказала, – заперлась в своей комнате и затихла. Я постояла у ее двери, прислушиваясь. Кажется, она рыдала в подушку, но, наверное, зажимала рот руками, потому что я различила только сдавленные «а-а-а», больше ничего.
Итак, у меня есть муж и дочь. Муж мой на старости лет влюбился, он при деле и ему не до меня. Дочь моя то ли не может влюбиться и рыдает в подушку, что приходится спать с кем попало (а как же иначе – гормоны!), то ли кто-то не отвечает ей взаимностью, и она от этого бесится. Но оба они – и муж, и дочь – живут, они живые, с ними что-то происходит, а я мешаюсь под ногами и ни одному из них не нужна. Я – мертвая.
У них заговор против меня. Заговор живых против мертвой, людей против тени. Между собой они перекидываются шуточками, Нюра целует отца в щеку, он ей показывает свои эскизы, и все это – мимо меня! Без меня! Поди прочь, тень! Старая, со старыми ногами.
Я ложусь спать, уже девять. С Троллем мы погуляли. Днем было тепло, а сейчас пошел редкий снег. Хорошо, пусть. Снег – пятнадцатого апреля, светопреставление.
Сердце колотится – того гляди выпрыгнет. Нюра из своей комнаты не выходит. Двенадцать часов ночи. Грохнула дверь лифта. Это Феликс.
16 апреля.Господи, прости меня. Прости, пожалей. Знаю, что все это заслуживаю, знаю. Cколько на мне всего!
Я всегда была скверной. С самого детства. Думаю, что это впервые обнаружилось тогда, когда из провинции приехала моя бабушка, мать отца. Дряхлая, почти слепая. В молодости была, как говорили, красавицей. И в старости красоты не утратила, несмотря на дряхлость. Лицо – сморщенное, крошечное, а нос и рот – кукольные. И глаза – хоть слепые – нежного голубого цвета, как завядшие незабудки. Эта несчастная бабушка, которую я едва знала, очень хотела остаться у нас и жить с нами – с моим отцом и со мной. Была еще горбатая домработница Таня, растившая меня после маминой смерти, но она не в счет. В провинции у приехавшей к нам бабушки была дочь, опереточная актриса, муж этой актрисы, полный идиот, трое одичавших внуков, толпы крикливых гостей, короче – никакого покоя. Дочь приносила с базара только что зарезанных кур в окровавленных перьях и говорила матери: «Ощипи и приготовь». Та ощипывала и варила. Ей, бедной, хотелось приютиться у сына в московской квартирке и дожить здесь, в райской тишине, остаток дней. Отец не мог ей отказать, но – и я это сразу учуяла! – ему было бы гораздо легче, если бы она уехала к себе в провинцию. Мужчине, одному воспитывающему девочку, перегруженному работой, страдающему бессонницей, взвалить на себя старую больную мать, выделить ей отдельную комнату, а самому перейти в мою детскую (Таня спала в кухне на кушетке) и не иметь ни минуты покоя! Ему очень хотелось, чтобы мать поняла все его трудности и уехала обратно к сестре, но она не понимала. Ласково бормоча что-то, бабушка разложила на столе и на подоконниках пестрые салфетки, выставила пузырьки с лекарствами, розовую, расколотую пополам пудреницу, гребенку, несколько шпилек и устроилась в кресле, готовясь провести так не только лето, но и всю жизнь.
И вот эту тихую голубоглазую бабушку – родную мать моего родного отца – я, одиннадцатилетняя девочка, выгнала из дома! То есть я ее, конечно, не выгнала. Я ей просто объяснила, как трудно живется папе с его бессонницей и как он нуждается в отдельной комнате. Я объясняла ей все это, краснея, торопясь и волнуясь, а она слушала, понурив ярко-седую кудрявую голову и перебирая оборки своей старинной кофточки маленькими сморщенными пальцами. Когда я закончила, она крепко поцеловала меня и сказала, что, конечно, в первую очередь нужно думать о папином здоровье и о том, чтобы мне было где делать уроки, так что она уедет.
В конце лета она уехала, а через полгода умерла.
О, стыд мой! Подлый грех мой, от которого не отмыться! Я знаю, отчего Нюра, ничего и не слышавшая об этой истории, меня ненавидит! Вот за эту самую старуху, давшую жизнь моему отцу и, стало быть, мне и, стало быть, моей дочери. Я предала родную плоть и кровь, и мне воздалось, мне отомстилось от моей же родной плоти и крови.
Кто это сказал – Достоевский, что ли? – про закон крови на земле? Есть такой закон, точно.
Феликс меня, конечно, бросит, я это давно чувствую, особенно после вчерашнего грудного голоса в телефоне. Сколько ей лет? Тридцать?
24 апреля. Мы расстались с Феликсом. Он ушел. Я гляжу в одну точку и вою. Спокойно, спокойно, пиши дальше. Тебя бросил муж, с которым вы прожили двадцать шесть лет.
Случилось это в среду.
Я уже спала, и довольно крепко, так что даже видела сон.
Мне снилось, что я молода и на мне ситцевый сарафан, похожий на те, что носили в пятидесятые. Живу я в каком-то чуть ли не средневековом городе, обнесенном стеной. Город стоит высоко над морем, и на него постоянно нападают соседи. Чтобы обороняться от этих соседей, жители разводят в своем море особых змей – плоских и прозрачных, так что их не видно в воде. В городе запрет: несмотря на то что все, от глубоких стариков до грудных младенцев, знают о змеях, признаваться даже самому себе, что ты об этом знаешь, нельзя. Всякий, кто нарушает запрет, сразу умирает. И вот я, молодая, веселая, в ситцевом сарафане, срываюсь с берега и падаю в море. Змеи окружают меня и обматывают своими волокнами так, что я не могу шевельнуться. Я чувствую, что это конец, знаю, но не кричу и не зову на помощь. Напротив, я изображаю, что мне было жарко и поэтому я решила искупаться.
Проснулась в холодном поту. Феликс стоял в дверях. Плащ и клетчатая кепочка были насквозь мокрыми, значит, шел дождь.
– Мне нужно поговорить с тобой, – сказал он. – Очень нужно поговорить.
И тут – о Господи, вот оно, наступило! – я повела себя как во сне, от которого едва опомнилась. Я забормотала о какой-то ерунде, быстро-быстро и очень дружелюбно, лишь бы не дать ему произнести, лишь бы протянуть время до смертного приговора. Я бормотала о том, что наш отдел вот-вот откроют, мне уже звонили и скоро я выйду на работу, так что он сможет плюнуть на свои халтуры и заняться любимым делом, я сетовала на то, что Нюра так редко бывает дома и мы почти перестали проводить время втроем, а это – согласись! – так важно, чтобы семья проводила время вместе, и пусть дочь давно выросла, все равно ей нужны родители, и мама, и папа – папа, может быть, чуточку больше, так как девочки вообще сильнее привязываются к отцам, отцовское влияние крепче… Я остановилась наконец, потому что мне не хватило воздуха.
– Наталья, – сказал он в кромешной тишине. – Я встретил другую женщину…
– О, какая дешевка! – завопила я. – Фраза из бульварного романа!
– Фразу я не буду с тобой обсуждать. – Он испуганно взглянул на меня. – Давай поговорим о деле.
Но я уже опомнилась. Надо было немедленно что-то предпринять. Нельзя отпускать его, нельзя!
– Послушай! – пролепетала я. – Зачем же так?
– Как – так? – спросил он.
– Зачем так жестоко? Не бросишь же ты нас, в конце концов! Мало ли что бывает у мужчин на стороне!
– Наталья, – сказал он глупым просящим голосом, – пойми, у меня другая женщина. Я ее люблю, вот в чем дело.
Кровь бросилась мне в голову.
– Какой же ты… – У меня тряслись губы, и слова застревали в горле. – Подонок ты, вот что! Грязный лысый подонок!
– А ты! – вдруг словно бы опомнился он и закричал так громко, что бедный Тролль выскочил из-под стола и уставился на нас. – А ты! Что я видел от тебя? Одни муки!
– Муки? – переспросила я. – Это ты-то говоришь про муки? Да вспомни хоть, сколько абортов я сделала, вспомни, через что я прошла! Муки!
– Мне, – закричал он еще громче, – мне твои аборты стоили не меньше, чем тебе! Я этот кошмар вспоминать боюсь! Когда бы я до тебя ни дотронулся, ты тут же начинала причитать, что опять залетела! И потом я вместе с тобой ждал этих чертовых месячных! Всю нашу жизнь я ждал твоих месячных!
– А кто виноват? – Я тоже кричала. – Кто виноват? Я что, от соседа залетала? Это были твои дети! Ты их делал, а потом требовал, чтобы их убивали! И платил за это! Да! Cемьдесят рублей в конверте!
– Я ухожу, – сказал он. – Чего-то самого главного нет в нашей жизни. Мы с тобой не договорились.
О, это было наше слово! Вернее, мое, которое он потом тоже начал трепать направо-налево! Я ему всегда говорила: «Мы с тобой договоримся» или (в хорошие минуты!): «Договорились?» Это было слово-пароль, и вот он теперь его вспомнил!
– Уходи, – сказала я и сползла на пол, туда, к Троллю, к его родному теплу. – Уходи, пока я тебя не убила. Ненавижу и желаю тебе смерти.
Он отшатнулся от меня.
– Смотри, – сказал он, – себе не накаркай. Знаешь ведь, как это бывает?
– А ты меня не пугай, – ответила я, изо всей силы прижимая к себе собачью голову (а Тролль, любимый, все понимал и только переводил глаза с Феликса на меня). – Не пугай меня, голубчик, поздно…
Он, видимо, взял себя в руки. Все-таки он бросал меня, да еще старую, безработную, выпотрошенную. И уходил к другой, с красивым грудным голосом, наверное, молодой и привлекательной.
– Я оставляю тебе квартиру, – сказал он. – Можешь делать с ней, что хочешь.
– Что? – взвизгнула я. – Ты мне оставляешь квартиру? А что я буду есть в этой квартире? Нашу кровать? Тумбочку?
– У меня нет денег, – ответил он. – Я отдаю тебе все, что у меня есть. – Он вынул из кармана плаща конверт и положил его на стол. – Тебе должно хватить на пару месяцев. А там посмотрим.
– Ты сказал Нюре? – спросила я.
– Нет еще, – ответил он и понурил голову.
Он понурил голову, как мальчик! Как провинившийся мальчишка!
– Я тебе не говорю, – сказал он, не поднимая головы (ах, какой гадкий спектакль!). – Я не говорю тебе: «Прости меня», потому что… Потому что мы сильно виноваты друг перед другом и вряд ли сумеем друг друга простить…
– Да, – сказала я, глядя на него снизу вверх (по-прежнему обнимала Тролля на полу). – Ты сильно виноват передо мной. И я тебя не прощаю.
Он криво усмехнулся:
– Меня прощать… Я с тобой хлебнул – во!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов