Внук Петр, сын Клавдии, работал механиком в совхозе под Орлом и в свой отпуск забрал к себе и мать, и деда. Дом в станице был продан, и все пути на родину для Василия Федоровича были закрыты.
***
Новое место жительства его не обрадовало: серые бревенчатые дома, с крышами из щепы, глухой лес вместо садов, небо без звезд и не было слышно сверчков. А вода в реке была коричневой и мутной, сильно пахла тиной. На новом месте каждый был занят своим делом, а у Василия Федоровича своего дела не было. По привычке он еще брался плотничать, столярничать, но силы были уже не те… Он уходил на берег реки, садился там на поваленный ствол клена и часами глядел в темную толщу воды, курил трубку, набитую турецким табаком из последних запасов, кашлял и вспоминал свое детство и жизнь на хуторе. Он вспоминал рыбную ловлю, прозрачную воду реки, ее песчаное дно и зарывающихся в песок вьюнов, охоту и своих собак, жену Акулину Ивановну; и чем больше проходило времени с того дня, как он покинул родные места, тем чаще в мыслях он возвращался к ним, пока однажды наконец-то не понял, что его тайные надежды – когда-нибудь снова побывать на хуторе – тщетны и не сбудутся никогда. Это открытие окончательно подкосило здоровье, и он уже ничего не загадывал на будущее, как, впрочем, и перестал вспоминать о прошлом. Собственно, это два конца одной истлевшей веревочки.
Обычно Василий Федорович просыпался рано, но с того дня стал позже вставать и, лежа на кровати, без всяких мыслей смотрел в потолок. На белом потолке сидели мухи, бился длинноногий комар, да в углу притаился такой же длинноногий паук. И хотя в соседней комнате полдня был включен телевизор, старику не хотелось смотреть в мельтешение экрана. Уж очень глупо оно, с высоты его лет, выглядело. Спешить ему было некуда, и незаметно подкравшаяся слабость перешла в болезнь. Стало трудно дышать, из груди с кашлем вырывались мучительные хрипы, и когда болезнь стала причинять Василию Федоровичу страдания, он понял, что избавит его от них только приближающийся конец. И как только подумал он это, так и сделал первый шаг ему навстречу. А когда становилось легче, он вспоминал свое детство, но не конкретно, а как что-то расплывчатое, светлое и радостное, и ему казалось странным, что перед смертью мысли идут не в ногу с жизнью, а в обратную сторону.
***
Неожиданно вспомнил себя в трехлетнем возрасте. Увидел своего отца. Сколько в детстве было солнца и света в жизни! Будто сейчас, а не тогда, берет он из ступки пестик, просыпает на деревянный стол соль и говорит: «Сахар». Отец поправляет: «Соль». – «Сахар». Отец протягивает ложечку. Он берет ее в рот, багровеет и морщится. «Ну?» – смеется отец и сразу же уходит как бы в тень. «Сахар!»
«Что я хотел доказать отцу? – думал Василий Федорович. – Всю жизнь мы доказываем что-то друг другу и, уходя из нее, так и не понимаем, зачем мы это делали и кто же из нас был прав». Такие мысли – первые робкие шажки мудрости, и, увы, как правило, они оказываются последними, так как сил на то, чтобы мудро мыслить, уже не остается.
Однажды осенним утром, когда Василий Федорович от слабости не мог подняться с кровати, ему вдруг показалось, что за окном опадает яблоневый цвет и крупные лепестки летят в окно…
До его сознания так и не дошло, что выпал первый снег. Он чувствовал такую слабость, что не мог поднять голову и посмотреть в окно. И тут его мысли наткнулись на самое горькое воспоминание – о поступке, которого он не мог себе простить всю жизнь. Он вспоминал его несколько раз в разные годы, когда ему было плохо. Последний раз – в день, когда ушла Куля. Почему он его вспоминал и почему не мог простить себе?
Слабый бездомный старик присел отдохнуть на завалинку у их двора. Стоял жаркий полдень, а старик был одет по-зимнему: в телогрейке, шапке и валенках. Он с друзьями, босиком и в одних трусах, возвращался с реки. Увидев старика, он закричал: «Гля! Дед Мороз!» – и все громко захохотали. Старик хотел уйти, но никак не мог подняться с завалинки. Его негнущиеся черные пальцы беспомощно хватались за камни стенки. Тряслись ноги, дергалась голова, а слабые выцветшие глаза были наполнены слезами. И столько в них было тоски – и как, и чем измерить ее в чужой душе? А мы смеялись…
И от запоздалого раскаяния Василий Федорович почувствовал в душе просветление и с горечью подумал: «Посмеешься над чужой старостью, собственная старость посмеется над тобой».
Старик закрыл глаза, прислушиваясь к звукам в самом себе, и ему показалось, что он слышит шаги уходящего из него сердца. Он пытался схватить его, но свет стал гаснуть, мелькнуло лицо Гришеньки, сгоревшего в танке, и Василий Федорович подумал: «Вот он, конец света, о котором так часто говорила жена. У каждого он свой».
Глава 11. Кто быстрее – время или курица
– А теперь из серии «Школьные годы чудесные» несколько штришков к портрету господина Рыцаря Туннельного Полусвета, – продолжил Рассказчик. – Всего несколько штришков, поскольку его занимают годы детства.
***
В семь двадцать утра начало трещать, как будто ломали тонкое стекло. Трещало пять минут. Школьная сторожиха Петровна торопливо допила чай и выглянула в окно. Было уже светло. Но еще серовато, с голубизной. Огромная лужа цвета кофе с молоком из школьного буфета, заливавшая вчера весь школьный двор, за ночь потемнела и съежилась. Над ней образовался громадный купол матово-белого хрусткого льда, по которому самозабвенно бродили три пацана. Лед скрипел, хрустел, трещал под ногами, взрывался и с шорохом осыпался. Лед хрипел и кричал: «Караул! Крушат!» – и норовил обдать ненавистные ноги ледяной водой и нанести режущий или колющий удар своим холодным оружием. Петровна крикнула в форточку:
– Вы бросите хулиганить?
– Ну да, тут же и бросили!
– Я кому сказала! Ах, тудыть ее, растудыть… – Петровна, накинув деревенский пуховый платок, чертыхаясь, выскочила на крыльцо. – Вы что, ироды, не слышите? Я кому говорю! Марш отседова! Ноги промочат, потом будут по партам весь день преть! Кому сказала!
Двое сделали «марш отседова». А третий – ноль внимания, фунт презрения – ходит и стреляет, ходит и стреляет… Нравится ему! Крушитель! Петровна схватила его за руку.
– Тебе что, особого указа надо?
Парнишка неожиданно вырвал руку, но не убежал. Петровна опешила.
– У-у, да ты гордый! Без матери в школу не пущу! – и она схватила наглеца за ухо, думая таким образом привлечь его к более строгой дисциплинарной ответственности. Схватить-то схватила, но тут же и отпустила: не по себе ей стало от режущего, как лед, но горячего взгляда малолетнего преступника. Она легонько подтолкнула его:
– Давай, давай, нашел занятие!
На переменке она узнала, что это был Димка Мурлов, из второго «А», не хулиган, но и не отличник, пацан и пацан. Странно, почему он так вел себя? Ведь совсем другой он был, совсем другой…
***
– Далее я пропускаю ряд лет, определенным образом сформировавших его мировоззрение, не потому, что это не интересно, а просто нет времени, – сказал Рассказчик. – Это особенно чувствуется, когда его действительно нет. Да я особо и не верю в то, что время формирует мировоззрение человека. Может быть, оно только проявляет данное свыше понимание мира и его проблем. Как-то в деревне я сидел тихим вечером на скамейке, умиротворенный (может быть, потому, что я был городской житель и сельские заботы не принимал близко к сердцу), а по двору, раздражая меня, носилась, как полоумная, курица. Помню, я подумал тогда: «Время неслось, как курица, или курица неслась, как время?» Не правда ли, хороший вопрос для городских бездельников? Можно затеять целый философический диспут. Кто быстрее? Вот так они и носились по двору, обгоняя друг друга. Но курица, еще сверх того, взяла и снеслась, то есть отлила в совершенную форму зародыш будущего времени, а вот само время не смогло сделать даже такой малости. С тех пор я к проблеме времени, его быстротечности, отношусь спокойно, как к переполошенной курице, и у меня нет ностальгии по ушедшим годам. Поэтому я их пропускаю без раздумий.
***
В седьмом классе Васька, лучший корефан Димки, организовал общество «ЮС» – юных страдальцев. Общество страдало по женщинам. Да, это не страда деревенская. Причина для его организации была, понятно, чисто возрастная: ребята вдруг поняли, что в мире есть женщины, о которых они ровным счетом ничего не знают. Исключая, разумеется, мам, бабушек, взрослых сестер и теток, у кого они были. А как известно, мамы, бабушки, сестры и даже тетки – не женщины, а близкие родственники. Поводом же послужил, как всегда, случай. Дон Жуан и Казанова стали теми, кем стали, только благодаря случаю.
Маленький восьмилетний Жуанито как-то, расшалившись, заскочил в комнату служанки. Анна, служанку звали Анной, сама по разуму была еще дитя и любила все маленькое и игрушечное, и им обоим доставила большое удовольствие игра в «мышку-норушку». Анна вскоре вышла замуж и стала добропорядочной матроной, а Жуанито, познав страсть так рано и поначалу не понимая и не испытывая всей ее остроты, всю жизнь искал острых, как перец, ощущений и побирался по женщинам, как нищий, в поисках несравненной своей Донны Анны.
Сиротку же Казанову, угостив пряниками, затащили в притон две проститутки и, поспорив друг с другом, кто из них окажется более искусным педагогом, взялись обучать юного несмышленыша многочисленным приемам любви, вознаграждая за каждый хорошо усвоенный урок мягким пряником. Этот бедняга потом всю жизнь искал в женщинах того, чего в них не заложил бог: сладости и мягкости мятного пряника. Бедный Джакомо!
Не знаю, стал ли Васька таким же неутомимым искателем любви, как эти два славных самца, но первое знакомство с некоторыми ее прелестями было обнадеживающим. Как-то Васька, уже затемно, возвращался домой с баскетбола через двор студенческого общежития и из чистого любопытства заглянул в приоткрытое окно первого этажа. Окно изнутри было забелено. В комнате горел свет, слышались голоса и неясный шум.
У Васьки тотчас перехватило дыхание и вспотели руки: к нему задом стояла крупная голая женщина и растирала себе спину махровым полотенцем. Комнатка за белым окном оказалась раздевалкой, а сбоку, из душевой, доносились женские голоса. Женщина громко говорила что-то и смеялась. Васька слов не воспринимал, он их даже не слышал. Он остолбенело смотрел на женщину и думал об одном: почему у нее такой огромный, и в то же время такой красивый зад.
Женщина повернулась. Васька в полуобморочном состоянии, как при вспышке молнии, успел увидеть ее всю спереди – смесь желтого, розового, белого и черного цветов – и опрометью, не разбирая дороги, помчался прочь от окна. Он бежал и физически ощущал возле губ, глаз, носа теплое ароматное тело. В висках его тяжело тюкало.
На следующий день он прокрался к заветному окну, но оно оказалось закрытым. Два следующих дня не дали ничего нового: не принесли ни напряжения, ни облегчения. На четвертый день он попробовал толкнуть окно. Окно приоткрылось. И прямо над его ухом раздался голос: «Женя! Прикрой окошко. Дует». Окошко закрылось. Женщины о чем-то говорили, потом стало тихо – видимо, все ушли в душ.
Васька толкнул окно. В щелку он увидел, что раздевалка пуста. Минут десять томительного ожидания были вознаграждены с лихвой. Из душа вышли сразу две молодые женщины. Одна говорила другой: «Ему Катька чересчур много позволяет! Я бы на ее месте…»
И тут Васька услышал такое, что мгновенно и навсегда перевернуло его представление о женщине, сформированное в семейном кругу. Это как человеку с севера, знающему о том, что арбузы сахарные, а дыни медовые, оказаться вдруг на бахче под Камышином и съесть за один присест полпуда ароматного чуда природы. Та женщина, которая просила Женю прикрыть окно, аттестовала неведомую Катьку такими площадными словами, что Васька почувствовал, как краснеет. Женя, тряся грудью, залилась смехом. И странно, на этот раз Васька не чувствовал никакого волнения, руки не потели, мысли не путались, в висок не тюкало, он лишь с жадным любопытством, как художник, изучал женскую натуру, открытую ему во всей своей прелести и во всей своей тайне. Кончилось это тем, что окошко опять закрыла Женька.
На следующий день Васька посвятил своих закадычных друзей – Славку и Димку – в свою тайну. У тех загорелись глаза, и они с обеда мучались, то и дело глядели на часы и ждали вечера. Темнело одуряюще медленно. Когда зажглись огни, ребята тронулись к наблюдательному пункту. И горели их глаза ожиданием зрелищ, ожиданием утех.
День был жаркий, окно приоткрыто. В душе за весь вечер помылись только бабка с внучкой.
Первое впечатление у новых членов «ЮС» было неопределенно-гнетущее. Васька утешал их и обещал райские наслаждения на завтра.
Назавтра их заметил с балкона здоровенный студент и турнул от окна, пообещав в следующий раз кое-что оторвать им. «А это вот видел?» – крикнули они ему хором и смылись.
Зрелища прекратились. И, как ни странно, именно то обстоятельство, что ребята видели только старуху с девчонкой и не видели ничего такого, что расписывал Васька, так распалило их воображение, что они не могли уснуть две ночи. Димка ворочался, и ему представлялось что-то среднеарифметическое между бабкой и внучкой, и у этого среднеарифметического были такие не математически громадные груди и задница, что он задыхался от волнения. А когда он пытался представить себе остальное, да так, что уже ощущал себя в нем, то вскакивал и бежал в туалет.
Следующее утро принесло свежесть и новость. Васька, оказывается, вчера вечером забрался на липу, что во дворе общаги, и в окне второго этажа увидел, как двое целовались, а парень расстегивал своей подружке кофточку. Потом там, к сожалению, погас свет, но, если приглядеться, многое можно было увидеть и в темноте.
Вечер выдался душный. Где-то за городом ворчала гроза. Парило. Ребята, стараясь не шуметь, забрались на липу. Разместились более-менее удобно, в развилке, и стали шарить глазами по окнам. «Где твое?» – «Вон – темно там».
Окна, одни темные, другие освещенные, не дарили их никакими откровениями. В них все шло своим чередом, была своя жизнь, как в немом кино, только без названия, без титров, без начала и без видимого конца. В «васькином» окне зажегся свет. «Они», – шепнул Васька. Ему было виднее.
Битый час эти двое занимались какой-то бестолковщиной: сидели напротив друг друга, говорили, выходили из комнаты, заходили, тыкались по углам, потом долго пили чай с булками, смеялись… Собственно, наполняли комнату минутами незамысловатого счастья. Потом девушка села на колени к парню и, улыбаясь, взъерошила ему волосы. Слов их не было слышно. Девушка встала, распахнула шире окно. Скинула с себя кофточку и осталась в одном лифчике. Перевесилась через подоконник и сказала: «Душно как!» – и такая она была счастливая и открытая в своем счастье, что Мурлова, как током, пронзила тоска, и он почувствовал себя в этот миг страшно одиноким, и этот миг потом растянулся на всю жизнь.
Сзади к ней подошел парень, обнял ее и стал целовать в шею. А Мурлова взяла досада, что какой-то парень, чужой, не имеющий никакого отношения к ее внутреннему миру, ее счастью, посмел коснуться ее в такой волшебный миг. Мурлов зажмурился, чтобы не видеть этого.
Васька и Славка затаили дыхание. Полыхнула молния и за спиной треснуло небо. Мурлов открыл глаза. Парень подхватил подружку на руки и отнес на кровать. А потом закрыл дверь и погасил свет. И стало в комнате темно, как в чужой душе.
– Пожалуй, я пойду домой, – вздохнул Димка.
– Ничего, – утешал Васька. – При свете молнии все хорошо видно.



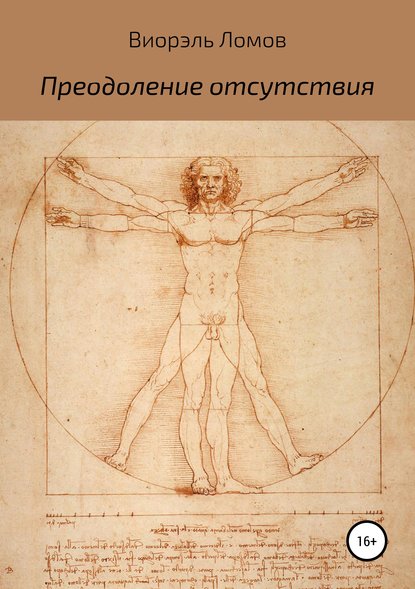




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0