Зав. кафедрой мединститута Борисов морщил нос:
– С трудом. Мне как-то привычнее считать в другой расфасовке. Хотя бы в литрах.
– Умножь на десять в третьей – получишь.
***
Пассажиры за десять дней интеллектуально, да и физически, выдохлись. Все-таки погружение было связано с большой нагрузкой на организм. У кого-то он был еще неокрепший, а у кого-то уже изрядно расшатанный. Почему-то всегда ни в чем нет нормы. Слайды надоели, концерты опротивели, шутки обрыдли, мешки обтрепались, от английского языка пошли волдыри по коже. Пассажиры раскололись на три основные группы.
Первая группа – мужчины и женщины преимущественно среднего возраста и достатка, приличной комплекции и приличного положения, в штатной своей жизни озабоченные регулярным питанием и регулярными прогулками на свежем воздухе, а также соблюдением всех семейных ритуалов, – всю вторую неделю пропадали в темных каютах, в ущерб калориям, озону и семейным ритуалам. Их называли снисходительно «молодыми», а число их, по подсчетам Дуче, было равно 2n + k, где n – число всех одноместных кают, а k – неопределенное число прочих, но не всех.
– У них развилась то ли боязнь пространства, то ли боязнь стремительно уходящего времени, – заметил зав. кафедрой мединститута Борисов. – Но выглядят они болезненно, очень бледные, видно, бледная немочь у женщин…
– Бледные они поганки, – заметил Дрейк и не сплюнул только потому, что некуда было сплюнуть.
– А у мужчин…
– А у мужчин скоро будет одеревенение всех членов, – заметил Филолог, и в глазах Дрейка прочел одобрение своим словам.
– Да, похоже, – согласился зав. кафедрой мединститута Борисов.
– Пусть примут курс лечения. Может, он последний в их жизни.
Вторая группа – преимущественно старички, закоренелые холостяки, бобыли, аскеты и прочие неудачники – сидели в затишке на корме в трех шезлонгах и восьми плетеных креслах, переставляли, бормоча, шахматные фигурки и с легкой грустью смотрели на все, что оставалось позади, чего было не вернуть и не пережить вновь. Они уже ни о чем не спорили, как в первую неделю погружения – тогда на них очевидно сильно подействовала молодежь, а со всем соглашались. Собственно, что такое, с позиций опыта, спор? Так, дребедень, напрасная трата драгоценного времени. Эту группу, естественно, игроки не осуждали и не обсуждали, так как сами косвенно были ее участниками.
Ну а молодежь толкалась на носу, подставляла ветру и солнцу счастливые загорелые лица, жадно вглядываясь в надвигающиеся неведомые берега, набегающую воду, облака, сияющую восточной голубизной и золотом жизнь. В их шумной, неунывающей компании случайно затесавшийся представитель первой или второй группы чувствовал себя чужим, одиноким и несчастным. Дрейк уважал эту группу, Дуче относился к ней индифферентно, у Филолога щемило сердце, когда он думал о ней, ну а для зав. кафедрой мединститута Борисова она была хуже горькой редьки.
После захода солнца, ночь напролет молодежь танцевала, пела, целовалась, мешала спать второй группе и мешала быть истинно счастливой первой.
На Фаину больше никто не посягал. Во всяком случае, на коленях не стояли и страстно не умоляли – как-то все поняли сразу, что это бесполезно и бесперспективно. Хотя влюбленных в нее были воз и маленькая тележка (она, правда, не собиралась их везти). Один лишь лидер, обросший серебристой шерстью, игнорирующий всякие группы, кроме той, где он был центром, не терял надежды и каждый вечер угощал Фаину в баре коктейлем, танцевал с ней один танец, благодарил и, галантно поклонившись и поцеловав ей руку на прощание, шествовал к себе в каюту. Казалось, он несет не себя, а драгоценную вазу. Что он делал один в каюте – никто доподлинно не знал. Видимо, ждал Фаину. Может, это был страстный мужчина. Он как-то признался Фаине, что его предки – выходцы из Валенсии. Все может быть. Только Фаина тут же забывала о нем до следующего вечера, и ее смех раздавался на палубе до утра.
В последний вечер Фаина, не допив коктейль, бесцеремонно бросила в баре лидера, покрытого шерстью, и выскочила на палубу. Точно черти вынесли ее наверх. По палубе брел Филолог. Подхватив его под руку, она через четверть часа, как Шахерезада, вытащила его дозволенными речами из прострации и довела до совершенного умоисступления. Филолог, как мальчик, полез к Фаине целоваться. Она странно взглянула на него. Оттолкнула. И пошла по палубе, покачивая бедрами. Совсем как марсельская шлюха. У Филолога задрожал подбородок. Он понял, что она идет к нему. В каюту.
В полумраке ее глаза сияли. Он не мог не глядеть в них. Она улыбалась. Молчала. И ждала. Филолог упал перед ней на колени. И обнял ее ноги. Прислонился к ним головой. Ощутил их прохладу. Фаина рассеянно вертела завиток на его макушке.
– И долго мы будем так? – в голосе ее была насмешка. Филолог понял, что эта златовласая колдунья презирает его, и будет презирать еще больше, если он посмеет овладеть ею. Он понял, что она никогда не будет его, что она вообще никогда не будет чьей-либо, и что она разбила его жизнь, навсегда разбила. Фаина дернула Филолога за вихор. Она подумала с горечью: «Уж Гвазава бы сейчас не растерялся». Филолог опустился на пол, разняв свои руки. Холодная испарина покрыла его лоб. Он плакал без слез.
Фаина поджала губы и вышла из каюты…
– Почему вы никогда не улыбаетесь, Фрэнк? – спросил Филолог вечером за пулькой капитана.
– Почему не улыбаюсь? – задумчиво повторил Дрейк, изучая свои карты. – А, собственно, чему я должен улыбаться?
– Как чему? Ну, жизни, например, шутке, женщине… Мало ли чему, – Филолог выпил.
– И что, помогает? – спросил капитан.
– Выпивка?
– Выпивка помогает. Улыбка?
– Да как сказать… – Филолог стал чересчур сосредоточенно смаковать рыбий плавничок.
– Хм… Видите ли, у меня, как эти ваши… – Дрейк подыскивал слово.
– Бездельники?
– Да, они. Как эти ваши бездельники любят говорить, трагическое мироощущение. Вы воевали? А вы? А я воевал. Вот потому и не улыбаюсь. Я начал войну танкистом. Потом горел в танке. Рубцы вот до сих пор. Это не от абордажных атак. Хотя из-за рубцов этих в основном и прозвище пиратское прилипло… К партизанам попал. Там меня в разведчики определили… Гореть в танке – не самое смешное. А вот давить людей, а потом с гусениц отдирать намотанные человеческие кишки…
Зав. кафедрой мединститута Борисов откинулся на стуле и широко раскрыл глаза. Он был специалистом в области психологии и остро ощущал дисгармоничность момента.
– Но и после этого улыбаться еще можно. В улыбке главное зубы. А я два года эти зубы вышибал. Буквально и натурально. «Языков» брал. Нас в разведку всегда по трое ходило. Но брал «языка» всегда я. Так уж получилось. У меня всех моих фрицы побили, что мне оставалось делать? Колька Жуков, профессиональный армейский разведчик, меня натаскал. Он до победы не дотянул, под мину попал. В руке вот так зажимаешь свинцовый шарик (по руке, специального изготовления) и ползешь, скажем, к часовому. Подползаешь – тут надо как пружина вскакивать (я в день, с бревном на плечах, по тысяче приседаний делал), вскакиваешь – и наотмашь загоняешь ему этот шарик в рот, вместе с зубами.
Зав. кафедрой мединститута Борисов проглотил слюну, и глаза его стали еще шире. Этот метод взятия «языка» был очень далек от методов психологии: скажем, метода проб и ошибок, используемого бихевиоризмом, и даже метода семантического радикала, в котором вызывают оборонительную реакцию ударом электротока. Дрейк понимающе кивнул ему головой.
– Всегда брали «языка» тихо – тут не покричишь, когда у тебя зубы в глотке. Да и боль парализует мгновенно. И так два года. У меня поначалу смеяться еще получалось. А потом и смеяться не мог. Не лицо, а маска. Маска разведчика. Я бы фильм не «Подвиг разведчика», а именно так – «Маска разведчика» – назвал. Так верней.
Филолог почувствовал («почувствовал», как могут чувствовать все совестливые люди) свои страдания такими пустыми и всю свою жизнь такой никчемной и пропащей, что, извинившись за то, что перебрал сегодня, понимая, что испортил хорошим людям игру, вышел, шатаясь, на палубу и в отчаянии едва не прыгнул за борт. Его удержала чисто эстетская мысль, что когда его вытащат из воды, опухшего и безобразного, его таким, быть может, увидит Она… «Феофан» возвращался к повседневной жизни. До города оставалось десять часов ходу.
На трапе Филолог подал руку Фаине. Она с улыбкой оперлась на нее. Глядя Фаине в глаза, Филолог сказал:
– Унижаться пришлось мне намедни. Ничего: Париж стоит обедни.
Фаина, не моргнув глазом, ответила:
– Oui, Paris vant bien une messe.
И улыбнулась, чертовка! Обворожительно улыбнулась!
Глава 17. И ножками, и ножками – влево вправо, влево вправо, влево вправо
На третий день по прибытии Мурлова в Воложилин, когда он оформлялся в отделе кадров, инспектор позвонила куда-то и подала ему телефонную трубку. Женский голос, любящий давать поучения, пригласил его назавтра к девяти утра к Сливинскому. «Захватите с собой диплом. Просьба не опаздывать!» – произнесла трубка. «Не опозда-аю…» – страстно прошептал Мурлов в трубку и бережно положил ее на аппарат. Инспектор покачала головой.
Секретарше понравилось, как он представился – вошел в приемную, щелкнул каблуками и серьезно произнес: «Разрешите представиться. Мурлов Дмитрий Николаевич. Выпускник столичного вуза. Красный диплом. Семьей не обременен. Прибыл в ваше распоряжение, сударыня». Прекрасная Альбина не нашлась, что сказать, молча распорядилась сударем и запустила его к директору, прищелкнув каблучками. Мурлов взглянул на нее, и они улыбнулись друг другу. Улыбка – что клей: склеивает порой на всю жизнь.
Сливинский посмотрел диплом, спросил, как погода в Москве, не тает ли снег, чем удивил Мурлова, расспросил об институте, о теме дипломной работы, руководителе, поинтересовался, знает ли он иностранные языки и умеет ли программировать на «Альфе» и на «Алголе».
– Ну что ж, Дмитрий Николаевич, испытательный срок вам – год, будете стажером-исследователем, оклад 100 рэ, общага возле леса. Не берлога, но живут в ней медведи. Увидите. Через год аттестация. Там посмотрим – научным сотрудником вас сделать или инженером, но кем-нибудь обязательно сделаем. Старайтесь. На год вам задача – узнать у коллег все, что они знают, научиться у них всему, что они умеют. Я, конечно, несколько преувеличиваю, за год не успеете, но старайтесь. А сверхзадача – к концу срока определитесь, чем хотите и чем сможете заниматься у нас. На ВЦ у нас много времени – на «БЭСМ-6», не теряйте это время даром. А то потом, голубчик, за время придется платить. Будете работать у доктора Хенкина, в отделе аэродинамики. Слышали о таком? В столицах?
– Да. Монографию читал.
– Ну и прекрасно. О человеке надо судить по лучшему, что он создал. Хотя у него есть несколько статей в американском журнале «Механика». Тоже неплохих. В нашей библиотеке есть.
Фамилия Хенкин часто встречалась в научных журналах и ведомственных сборниках. На пятом курсе его имя несколько раз упоминали на лекциях, и у кого-то в группе даже была тема дипломной работы в развитие одной из хенкинских идей.
Здесь, в институте, как вскоре узнал Мурлов, Хенкина по праву считали счастливчиком. В сорок пять лет он уже имел все, что нужно для человеческой жизни: доброе имя, прочное место в научном мире, квартиру на Стрельбищенском жилмассиве, машину, красавицу жену, вывезенную пять лет назад из загранкомандировки – она была в поездке по Польше его переводчиком. (Опять полячка? – подумал ты). Нет, она была русская, но ее родители долго работали в Польше, в торгпредстве, и ополячились настолько, что Елена Федоровна себя считала полячкой, и ей нравилось, когда к ней обращались «пани» и восхищались ее красотой – простительная слабость.
Хенкин обладал прекрасной памятью и обширными сведениями во всех областях человеческого знания. Некоторые, правда, считали его занудой, но это был простительный недостаток при таком достатке всего прочего. Ведь, по большому счету, мужчины-мудрецы и женщины-красавицы – все зануды. Это закон природы. Закон занудства. Занудой же его называли по той причине, что у него был зуд рассказывать встречному и поперечному обо всем, что он знал. А знал он все и знал всех. Поэтому это было всеобщее проклятие. В его памяти можно было найти необходимые ученому (хотя на то и есть уйма справочников) точные (до немыслимых степеней) значения космических, ядерных, химических и прочих констант; и тут же – сколько, например, ступенек в потемкинской лестнице (что в Одессе) было и сколько осталось; или – сколько любовников было у Клеопатры и Айседоры Дункан или любовниц у Пушкина и Казановы (причем дотошность его в изложении подробностей была такова, что невольно хотелось спросить, уж не прятался ли он сам в это время где-нибудь за портьерой или в складках ковра); или – что сказал Диоген Синопский, сын менялы Гинесия, развратнику Дидимону; или – как менялся курс гульдена во Франции на протяжении семи столетий и, что гораздо изменчивей, цена на водку в России за последние сто лет; или, на худой конец, когда с собеседником было не о чем говорить, – сколько у кита весит большое яйцо – об этом, кстати, через него, знали уже даже в младшей группе детсада № 7. Хенкин, повторяюсь, знал все. Не знал одного – зачем ему все это нужно знать. Впрочем, Божье наказание иногда носит самый причудливый характер.



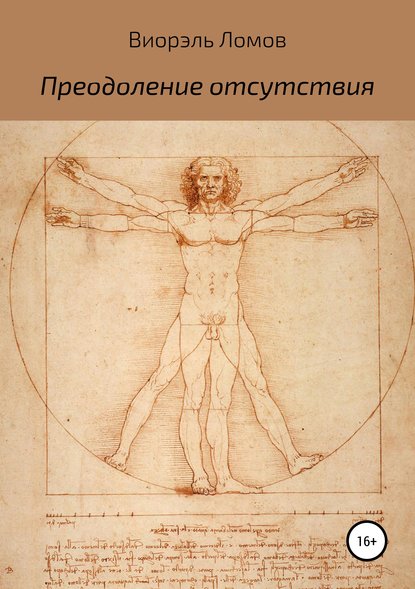




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0