– Если что, пойду к вдове…
– Ох и наивный же ты, брат! Ну сходи, сходи, коль ума нет. – Сирый как-то обреченно пошел в ельники, потом обернулся: – Забыл, как принимала?.. Покровителей в Вещерских лесах не бывает! Послушникам и куска хлеба не дадут без воли бренки или настоятеля. Я даже не могу научить, как от мороза спасаться! Потому что голодный ты все равно не спасешься! Хоть трижды волком обернись! – Он постоял, качая головой, затем сдернул котомку, достал веревку и бросил Ражному: – На! Хоть этим подпояшешься… А если что, и удавиться можно на горькой осине.
Через минуту его следы на снегу заровнялись поземкой, и Ражный остался один. Он поднял веревку, подпоясал рубаху и побродил по кургану, все сильнее ощущая знобкое одиночество. И уже на закате солнца направился к сороке, ибо не найти было иного ночлега, а к вечеру примораживало так, что защелкали деревья.
Вдова встретила его равнодушно, хотя уже не ворчала, как вчера, сдержанно спросила о ране, мимоходом кивнула на лавку, где он спал прошлую ночь.
Не баловали здесь приговоренных лаской и вниманием, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому Ражный попил воды и лег.
– Поединщики ропщут, – вдруг сказала сорока, когда он уже засыпал, паря сам над собой летучей мышью. – Пересвету челом бьют, считают, Ослаб слишком строго с тобой обошелся, неправедно осудил. Сам-то как считаешь?
Вольные вдовы могли обсуждать все, что происходило в Полку, и перемывать косточки, невзирая на личности. Что с них взять? На то они и сороки…
Ражный молчал, а она не унималась:
– Года два назад еще в лесах пусто было, живую душу не встретишь. А теперь сколько вашего брата нагнали! И откуда берутся только?.. Неужели все такие грешные, что сразу в Сирое надо? Поговоришь с араксами – вроде не буйные, не злобные и без воинства жить не могут… Ох, не зря говорят, Ослаб не только телом, но и разумом ослабел…
Обсуждать с ней разум духовного предводителя Ражному не хотелось еще и потому, что после спроса под древом Правды в Судной Роще у него сложилось совершенно иное убеждение – ум и суждения Ослаба показались ясными, пронзительными и даже провидческими.
– Да ты и сам непутевый, зверя дикого пожалел, а себя нет, – уже ворчливо заговорила сорока. – Говорят, на Свадебном Пиру добро погулял, а не женился. Поди, суженая есть? А ей каково, подумал? Хочешь, чтоб кукушкой летела по лесам да куковала по милому?
Ему показалось, что за синими, сумеречными окнами в морозной тишине послышался звук, напоминающий пение. Он знал, что это всего лишь обман слуха, психологическое воздействие сорочьего треска, поэтому не придал значения.
– Ты вот что, аракс… Послушай совета мудрой вдовы, иди-ка из лесов, бери невесту и к Пересвету. Пускай найдет подходы к Ослабу. Боярину сейчас не слишком-то весело, шум по всему воинству идет… Говорят, он даже побежденного соперника своего… Погоди, как имя-то ему? С которым в последний раз на ристалище сходился?..
– Калюжный, – подсказал Ражный.
– Вот-вот… И Калюжного этого по навету боярина осудили и будто в Сирое пригнали. Что творится?.. Так пусть теперь Пересвет похлопочет перед старцем, чтоб допустил. А как допустит, тут уж не теряйся…
Сквозь это сорочье подстрекательство Ражный вновь услышал переливчатый звук и теперь уже точно определил, что это человеческий, тоскующий голос, только странный, похожий на церковное пение. Осторожно освободив второе ухо от подушки, он прислушался, но звук оборвался каким-то неясным всхлипом.
– Мне чудится, будто волк воет. – Сорока, видно, тоже прислушивалась. – Слушаю и радуюсь.
– Откуда здесь волки? – после паузы спросил Ражный.
– В том-то и дело… Мне волчий вой как музыка. Пусть поют!
– Обычно женщины боятся, – сказал он, а сам ужаснулся зловредности этой сороки.
– Боятся… Я тоже боюсь. Но если они придут на Вещеру, это мне знак будет!
– Какой знак?
– Тебя ведь сначала хотели с Нирвой свести… – заговорила она с бабьей тоской. – Калики уж сюда на лошади с клеткой приехали, чтоб вывезти его из Сирого. Я обрадовалась и молилась, чтоб ты его одолел на Судном поединке… Да передумал ослабленный старец, волка натравил. Должно быть, пожалел тебя. А если б с буйным свел?
– А что тебе Нирва сделал?
– Завтра утром собирайся и уходи, – вместо ответа строго треснула сорока. – Нечего тут делать. Нет в Сиром ни счастья, ни истины. Так что не ищи.
Ражный еще долго прислушивался к пространству за окнами, но отмечал лишь частый треск деревьев, напоминающий далекую и ленивую перестрелку.
Рано утром, когда хозяйка принялась растапливать печь, он тихо встал, оделся и попросил топор. Она взглянула на него оценивающе, и в голосе послышалась угроза:
– Коль со своей судьбой вздумал потягаться, без топора проживешь. Ступай, и чтоб духу твоего не было!
Ражный вспомнил предупреждения калика, поблагодарил сороку и вышел на крыльцо: в небе еще мерцали звезды – единственные неподвижные детали этого колеблющегося пространства, а от изламывающихся деревьев, покрытых инеем, исходил морозный шорох…
3
Хронический недосып мучил Савватеева вот уже четвертый месяц, с тех пор как родилась дочка. Поздняя беременность у жены проходила трудно, она дважды лежала на сохранении и, хоть кесарево сечение делали в Кремлевке, все равно операцию перенесла тяжело, и сейчас требовались покой и хороший сон, чтоб сохранить молоко. Ребенок был первый, поздний, долгожданный, но когда Олег Иванович взял его на руки, ничего не ощутил – ни волнения, ни каких-то особых отцовских чувств или радости.
И потом, когда это крохотное существо поселилось в квартире и сразу же завело свои, не совсем приемлемые порядки, Савватеев почувствовал даже некоторое раздражение. Особенно его доставал крик, звучавший среди ночи, как тревожная сирена, и заставлявший вскакивать и суетиться. Он терпел, думал, что это все пройдет, начнется эффект привыкания, однако при этом ловил себя на мысли, что когда смотрит на дочку, то ищет черты сходства с ним.
И не находит! Почему-то нос крупный, не савватеевский, волосики жгуче-черные, разрез глаз не его и не жены – скорее типичный восточный. Так бывает в смешанных браках, когда к устоявшемуся, например, славянскому типу примешивается кровь инородца, способная доминировать два-три поколения, и прежде всего это заметно по цвету волос и разрезу глаз. В антропологии он кое-что понимал по долгу службы, как, впрочем, и в других науках, связанных с физиологией и психологией человека.
Савватеева это как-то однажды и сразу оглушило, и он молчал, с затаенным ужасом взирая, как все более развивающиеся расовые признаки выстраивают стену между ним, женой и новорожденной дочкой.
В первое время он еще посмеивался над собой, мол, хорошо, что ребенок не африканец какой-нибудь, однако все анекдоты на эту тему ему показались грустными, когда он почувствовал полное отчуждение и понял, что никогда не будет любить это дитя. Жена все чувствовала или догадывалась о его сомнениях и исподволь пыталась убедить, что девочка – вылитая прабабушка Нина, которую Савватеев никогда не видел, но знал, что будто бы в ее жилах текла кровь кавказской княжны.
Однажды у них все-таки состоялся доверительный разговор, и он открылся жене, пожаловался, мол, это странно, однако он пока не испытывает отцовских чувств к девочке, хотя ждет их. И предположил, дескать, не потому ли, что ему уже сорок и перегорел, переступил некую черту, за которой уже поздно искать юношескую яркость чувств.
Назвать истинную причину он не мог, ибо в тот же час последовала бы смертельная супружеская и материнская обида со стремительной развязкой.
– Тебе нужно больше общаться с дочерью, – определила Светлана. – А ты все время в командировках! Нужен постоянный контакт, забота, зависимость от ребенка, чтобы пробудить чувства.
И Савватеев решил их пробудить в полной уверенности, что справится и с этой задачей. Он знал, достигнуть можно всего, если проявлять последовательное и все возрастающее упорство, если, невзирая ни на что, стоять до конца. Он освободил жену от ночных бдений, вызвавшись укачивать девочку и вставать к ней, если проснется и заплачет, взял на себя молочную кухню, стирку и прочие памперсы. Поначалу роль ночной няньки и кормилицы доставляла Савватееву некое удовлетворение: он вскакивал по первому сигналу, брал девочку на руки, нежно баюкал, мычал колыбельные, если нужно, менял пеленки, разогревал в теплой воде и давал молоко или сок, правда, по-прежнему не испытывая радости от этого, поскольку еще пристальнее стал вглядываться в черты лица дочери.
А потом однажды вгляделся в лица детей азербайджанской семьи, купившей квартиру в их доме, и все потуги тотчас же пошли насмарку.
Ситуация была обескураживающая и постыдная – прожить вместе пятнадцать лет в ожидании этого дитя, чтоб потом, когда оно явится на свет, все разом оборвалось. Конечно, следовало бы прямо спросить жену, кто отец ребенка, но это привело бы к разводу. А от неминуемой ссоры пропадет бесценное материнское молоко: в последний год Светлана и так пережила много стрессов.
Оставалось одно – молча собрать вещички, выпросить у руководства зарубежную командировку и исчезнуть на несколько месяцев. И это будет «бархатный» вариант расставания, поскольку жена давно привыкла к его внезапным и длительным поездкам в никуда.
А руководство же, наоборот, старалось его особенно не тревожить и, словно в насмешку, всякий раз интересовалось здоровьем матери и дочери, что-то советовало и намекало, что на целый будущий год он освобожден от внезапных и долгосрочных поездок. Даже окончательно решившись уйти из семьи, Савватеев несколько дней оттягивал драматический момент и все-таки рискнул провести тайную генетическую экспертизу. А это оказалось не так-то просто, и самое главное, нужно было взять у девочки кровь, и пока Савватеев все это устраивал, создалось полное ощущение, будто он совершил нечто постыдное, мерзкое или вымазался в грязи.
Несмотря на то что негласный анализ, сам того не подозревая чей, делал Крышкин – человек из своего родного ведомства, все равно результат обещали лишь через две недели. И поторопить его было никак нельзя, чтобы не заподозрил некой личной заинтересованности, кроме того, весь этот срок надо было прожить так, словно ничего не происходит.
В первый же день, как только он вернулся домой, жена сразу заметила его странное состояние, начала приставать с расспросами, и Савватеев чуть не взвыл и не выдал себя. Выход был один – идти к руководству и просить командировку, однако все получилось само собой. Мерин сам вызвал к себе на конспиративную дачу в Лесково, за семьдесят километров от Москвы, хотя в том не было никакой нужды. Бывший милиционер страдал заболеванием – тяжелейшей формой комплекса неполноценности, и этот его тайный диагноз был неизвестен лишь ему одному. Он еще не наигрался в конспирацию и теперь изображал из себя резидента, делая значительное событие из каждой встречи со своим подчиненным. При хорошем течении дел Мерин довольно убедительно играл мягкого, обаятельного кота, однако же готового в любой момент выпустить когти. Подводила только его вечно красная, выдубленная на холоде и ветру физиономия гаишника, на которую уже было невозможно напялить ни одну маску, и еще словарный запас, в экстремальных ситуациях становящийся весьма узким, специфическим и конкретным.
Едва Савватеев переступил порог, как стало ясно, почему встреча назначена на этой даче: уединившись, Мерин здесь пил, чего раньше за ним не замечалось, и теперь, утром, несмотря на непроницаемое лицо, явно страдал с похмелья, хотя побрился, надушился, нарядился в слепящую от белизны рубашку и делал вид, что его распирает от счастья.
– Почему у тебя глаза красные? – встретил он Савватеева прямым намеком. – Пьянствовал, что ли, на радостях?
– Родительские заботы, – в сторону сказал Савватеев.
Мерин выставил на стол рюмки, коньяк и блюдо с фруктами.
– Все это проходили… Ночные колики, газы мучают, пупочная грыжа… Как давно это было! И вы потом забудете. В памяти останется все прекрасное.



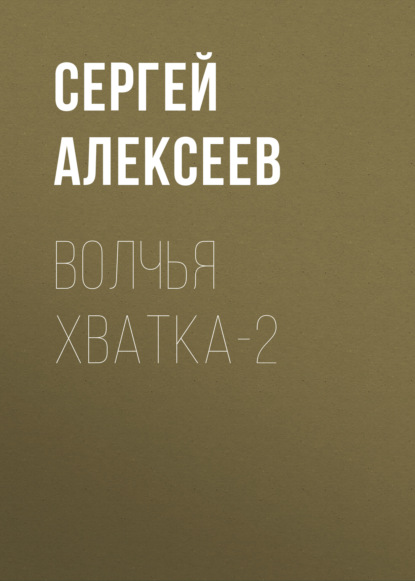




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0