Вот потому я и задержался в очередной день рожденья Пушкина у жёлтого домика на Мойке. Праздник всё-таки. Но не успел я и кимоно оправить, как посреди дворика сделалось неброуновское движение. Откуда-то выскочили люди с камерой и попытались установить контакт с поэтическим бомондом.
Но у них не клеилось. Они переходили от одного края толпы к другому и снова ретировались, неудовлетворённые. Мы с Филиппом услышали, как люди с камерой говорят поэтам:
– Нет, это нам как-то… не подходит. А у вас есть что-нибудь… ну, повеселее? Нормальное что-нибудь?
Поэты гордо вскидывали головы и отвечали, что телевизионщики не понимают высокого. Того, что завещал нам Пушкин. Люди с камерой делали страдальческие лица, смотрели на часы, рвали на себе волосы и провода.
Я снова подумал о японцах, чьё консульство через речку. Им классическая русская поэзия тоже давалась с трудом, но они старались. Как-то раз на обеде в японском посольстве в Москве мы обменивались с ними знаками взаимного уважения. Я прочёл пару хайку, но на третьем забыл слова. В ответ полномочный министр посольства Японии Акио Кавато прочёл хороший отрывок из Пушкина. Потом он признался: «Я заучил этот отрывок… с большими усилиями… в туалете!» Присутствовавший при этом редактор журнала «Арион» Алексей Алёхин воскликнул: «О, туалет! Святое место!» Вышло не совсем хайку и не совсем по-пушкински, зато все сразу поняли друг друга. Аригато, чего же боле, что я могу ещё сказать?
Вот и теперь в Питере, в жёлтом дворике на Мойке, требовалось найти общий язык. Между поэтами и телевизионщиками.
– Давайте я прочитаю, – сказал я.
– А вы можете… нормальное? – недоверчиво спросили люди с камерой.
– Ну, попробуем.
Я встал в поэтическую позу, то есть отвёл в сторону правую руку (так часто делают известные поэты – видимо, защитный блок из каратэ) и начал:
—Мой дядя самых честных правил:
он их ловил и к стенке ставил,
чтоб не мешали, паразиты,
читать труды Адама Смита!
В толпе поэтов раздались непроизвольные смешки, которые тут же сменились фырканьем: да это же ерунда какая-то, пародия! Но люди с камерой вцепились в меня клещами. «Давайте ещё!» – «Да легко…»
—На третье в ночь, проснувшись рано,
в окно увидела Татьяна
окно, а в нём – ещё окно,
а в том окне – ещё одно…
И насчитав ещё штук двадцать
окошек, Таня поняла:
нельзя так рано просыпаться!
Пошла и снова спать легла.
Стоя перед камерами, я спиною ощущал зависть гордых питерских поэтов, не попавших в кадр. Поэтому добавил немного географического троллинга:
—Москва! Как много в этом звуке!
Да что там в звуке – в каждой букве:
и в этом «М», и в этом «О»,
и в «В», и в целом «СКВ»,
и в «А», и уж конечно, в «КВА»!
Ну так и чувствуешь – МОСКВА!
На следующий день знакомые из разных городов спрашивали в Интернете, действительно ли я известный поэт нового направления. Потому что мою рожу показали в «Сегоднячке» по НТВ и там была такая подпись – наверное, что-то перепутали?
А вот Филиппу Кириндасу на том мероприятии повезло меньше. Он тоже стал читать нормальное стихотворение. Но не во дворике, где было мало народу, а в большом зале, в микрофон. Стих был посвящён непростым отношениям поэта Блока с его женой, которая одновременно спала с другими известными поэтами, пока Блок шарился по аптекам. Когда из уст Филиппа прозвучало слово «блядь», группа литературных ревнителей вскочила на сцену и оттащила Филиппа от микрофона. А стих был замечательный, между прочим.
Коктебельская засада
Чтобы закрыть тему публичной поэзии, я ненадолго прерву рассказ о 90-х годах и забегу в будущее, в сытые двухтысячные, когда в российских городах стали появляться поэтические кафешки. Правда, и там свободных чтений не устраивали – нужно было с кем-то договариваться, записываться… Меня к тому времени подобная возня уже не интересовала, и когда я писал своё «Идеальное кафе», то не включил в перечень признаков хорошего заведения поэтические чтения.
Но в американском «Blue Moose», с которого началась моя кафешная жизнь, такое было. И призрак «Синего Лося» как будто решил напомнить, что я рассказал о нём не всё. Летом 2003-го, когда я уже не помышлял ни о каких поэтических акциях, одна кафешка Коктебеля круто изменила мою жизнь.
Началось всё с Кати Тепловой. Это она коварно заманила меня в Коктебель, да ещё взяла с меня обещание, что я почитаю стихи в местном культовом заведении «Богема». Но сама не поехала в Крым со мной, а обещала приехать позже.
Ночью в поезде я стоял у окна и смотрел на яркую звезду. И думал – вот если бы сейчас рядом была красивая девушка, я бы ей сказал с умным видом: «Гляди, это Марс». Через пару минут Марс заметно снизился, а затем и вовсе пошёл на посадку, подмигивая крылом. В одиночестве всё-таки есть свои прелести. Например, никто не знает, что я полный лох в астрономии.
В Коктебеле я несколько дней спокойно купался, но потом всё-таки разыскал «Богему». На первый взгляд, заведение было довольно близко к моим параметрам «идеального кафе». И по интерьеру, и по кухне. А тексты меню – вообще чистая поэзия! «Кальмар, настоящая кладовая белка». Сразу вспомнился мой Пушкин, который любил лазить в кладовку и метить там обувь. Но Кладовая Белка – это зверёк явно покруче, он наверняка может и шапки метить.
Я попил чаю, нашёл хозяйку «Богемы» и записался выступать в ближайшее воскресенье. Коварная Теплова обещала приехать за день до этого.
Ни хрена она не приехала. Зато я, посетив ещё пару раз «Богему», убедился, что культурная атмосфера кафешки напоминает кладбищенскую затхлость тех самых ЛИТО, откуда я вроде бы убежал в прошлом веке. Вроде бы. В английском есть глагол «to haunt», буквально «привиденить» или «призраковать». Меня призраковало не по-детски.
Каждый вечер кафешку наполняли старикашки. Программа была им под стать. В один вечер выступал местный бард. Он исполнял тошнотворную песню про странное сексуальное извращение советских туристов, известное как «изгиб гитары жопой». Барда сменил учёный человек, который полтора часа вещал о реставрации двух кирпичей из печки дома-музея поэта Волошина.
Бывали и поэтические чтения. После очередного секса с гитарой на сцену выходит старушенция и вскрикивает:
– Могу ль я быть красивей,
чем нагая
в саду весёлом?
С этими словами старушка хватается за голову и замолкает вместе с залом. Потом уходит к своему столу.
«Оба-на! – думаю я (это такая священная японская трава). – Неужели, бля? Хайку?»
Но старушка вдруг метается обратно к сцене. Начинает стихотворение снова, но уже без провала в памяти. Несёт ещё строк двадцать какой-то заумной херни. Ну что за мудзё… (японский поэтический термин, означающий проникновение в суть вещей).
В другой раз крутили кино, параноидальный чёрно-белый фильм о том, как чёрные силы хотели смерти поэта Андрея Белого. Кольцо врагов сжималось вокруг Белого с каждым днём. Его хотели извести все, кто мог: и чекисты, и масоны, и женщины. Кино называлось «Охота на Ангела» и заканчивалось совсем уж страшными словами:
«Несмотря ни на что, Андрей Белый пережил Маяковского, Мандельштама… – (далее ещё тридцать имён чудаков на «М») – …и умер совершенно здоровым от солнечного удара в Коктебеле».



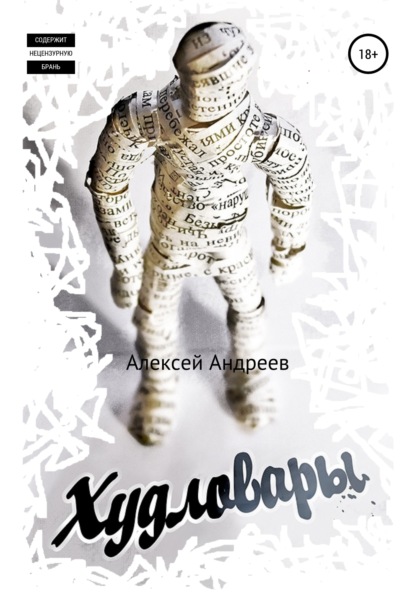




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0