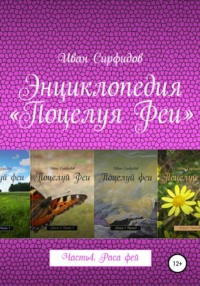
Энциклопедия «Поцелуя феи». Часть 4. Раса фей
Фея ночи – всегда темноволоса, отличается от прочих фей расцветкой крыльев, каковая тоже может быть и узорчатой, и изобиловать яркими красками вроде красного или золотого, но неизменно имеет основным фоном чёрный цвет. Они чёрные, чего у других летающих кьюэнэ не встречается. Это во многом особенная фея. Любит ночное небо, звёзды, видит в темноте, дружит с филинами и совами, днём творит магию с трудом, после заката гораздо легче, особенно при свете луны. В полнолуние её чары наиболее сильны. Способна избавить от бессонницы и храпа, иногда в силах заставить любой предмет до рассвета тускло светиться поверхностью (в том числе одежду, своё платье, к примеру). При опасности может ненадолго становиться невидимой. Неплохо избавляет от дурной магии, снимает порчу и сглаз. Относительно умела в создании иллюзий, в накладывании защитных чар и оберегов, включая, если могучая, весьма мощные вроде дара единожды избежать неминуемой гибели (вот уж что ценно для воинов – летящая в тебя стрела отклонится в сторону, вонзающийся в тебя меч станет на несколько секунд бесплотным), а то и непреодолимой волшебной брони, когда всякое коснувшееся тебя оружие тут же ломается. Некоторые феи ночи запросто преображаются внешностью, до утра придавая себе иные черты лица и иной наряд. Могут сделать это и с кем-то другим по его желанию. Известно, что самые сильные из них в состоянии навсегда преобразовать облик существа согласно чистоте его души – доброго превратят в раскрасавца, злодея в мерзкого урода. Сопутствующая способность феи ночи – рядом с ней тому, кто не ложится спать, стремясь не заснуть, легко бодрствуется, а кто спит, высыпается за несколько часов. Сама она извечно ложится под утро, а встаёт в полдень. По сути своей она даритель. Одариватель. Небезызвестная в народе зубная фея в действительности фея ночи. Другие-то феи спят ночами. К слову, монеток она за зубик не платит, и не изымает его, а превращает в конфетку. Кроме этого фея ночи порой делает подарки невинным и добродетельным в их дни рождения, в праздники или за хороший поступок, порой вместо подарка помогает в чём-либо – просыпаешься, а какое-то рутинное дело (скажем, мытьё посуды) уже сделано, или некое незатейливое чудо произошло – в саду появился прекрасный цветок, к примеру. Ни во двор, ни в дом ей входить для одаривания не требуется, достаточно быть неподалёку. Она чувствует тех, кого стоило бы одарить, и зачастую чувствует желания спящих. Иногда фея ночи дарует и совсем не незатейливое чудо. Если пара долго не может зачать дитя, но очень мечтает об этом, именно она, бывает, исправляет ситуацию. Занятно, что она абсолютно не боится тьмы, но не менее всех прочих дам кьюэнэ боится призраков. И очень боится ночных гроз. В них её из дома не выманить.
Фея объятий – легендарная исключительно редкостная фея, рождающаяся в мире раз в сотни лет. У неё очень странный талант, лежащий вне плоскости сотворения чар. Если специализация большинства остальных фей заключается в чём-то, что они могут легко колдовать, у феи объятий он в неординарном способе пополнения магических сил. Очень неординарном. Она способна заряжаться ими, наращивая до невероятных значений, до истинного могущества, через объятья с мужчинами неколдовских рас, кому дорога или кто в неё влюблён. На свет феи объятий появляются очень слабыми по части волшебства, и если они не находят чужеземного мужчину, в ком смогут пробудить к себе истинную любовь, то так до конца своих дней и остаются слабы. Если же находят… У фей объятий нет выраженной магической специализации, вкупе с могуществом это приводит к тому, что им порой становятся по плечу великие чудеса, в непредсказуемых сферах, самых разнообразных. Могущественная фея редкость, всякая легендарна сама по себе, тут легендарность фактически гарантируется с рождения – при выполнении условия, что нужный мужчина будет найден. Есть во всём этом некая парадоксальность. Известно, что кьюэнэ неспособны влюбляться в представителей прочих рас, на них словно защитные чары, препятствующие физическому влечению к иноземцам. Фея объятий вынуждена обниматься с тем, кого никогда не полюбит и за кого никогда не выйдет замуж. Кого сделает несчастным вследствие безответной любви к ней. Это довольно серьёзная моральная дилемма. Некоторые феи объятий решают её по-своему – выбирают остаться на всю жизнь слабыми. Но большинство всё же нет. Дело в том, что в их природу заложен определённый подвох. Они автоматически становятся очень счастливы от объятий, из которых черпают магию. Это всепоглощающее счастье, пред которым они не в силах устоять. И они начитают дарить это счастье тому, кто их обнимает, делить его с ним. Счастье фей невинно и бесхитростно, оно очень доброе и тёплое. Мужчина, «вынужденный» обнимать, точно не остаётся в накладе. К тому же его по полной одаривают чудесами – могущественная фея. Как бы он там не «страдал», вряд ли он станет жаловаться на судьбу. Что это за странное свойство, откуда оно возникло у фей объятий, никто не знает. Кьюэнэ относятся к нему философски, как к данности небес, предполагая, оно некий знак богов, указывающий искать нечто дорогое душе и в других народах, не замыкаться в своём. Представители далеко не всех рас подходят для объятий. Эльфы имеют иммунитет к магии и потому не способы порождать её. Гномы способны, только уж слишком не вышли ростом, обниматься с ними странно и неудобно. Кентавры тоже в теории вполне могут, но и они чересчур иные. Феи традиционно тяготеют к людям как к самым близким в параметрах души и облика существам. Посему и для феи объятий человек фактически безальтернативен в качестве кавалера для пробуждения могущества. Ищется он как правило её родителями, на этапе, когда она становится девицей предсвадебного возраста, но ещё не влюблена и не помолвлена. Обычно её даже оберегают от случайного возникновения сердечных чувств к кому-либо. Всё это сколь далеко от понятия нормального, столь и необходимо. Фея легендарной силы важна для страны, для народа, она сделает много полезного, принесёт много славы, убережёт от многих бед, поможет многим. Безответственно от этого просто взять и отмахнуться. Если фея уже влюблена, ей будет не до объятий с человеком. Она не пробудит в нём трепетные чувства к себе. Любовь штука сложная, не возникает по приказу даже к красавицам, нужна искра, что-то между двумя, личный контакт. Гораздо более шансов, что парень воспылает, если девушка пытается его очаровать. Тут же недостаточно просто влечения, симпатии. Для истинного могущества нужна истинная любовь. Впрочем, известны случаи, когда человека подыскивали уже после замужества. Всё равно все всё понимают – и сама фея, и её супруг, что полюбить чужеземца она не может, для неё это просто тёплая дружба и не более того. Раз боги сделали её нуждающейся в дружеских объятьях, почему бы и нет. Феи безгрешны, а дружить никому не возбраняется. У феи объятий имеется ряд сопутствующих способностей. О паре из них мы уже писали выше – она может самоочищаться, а объятия с ней очищают и других. Однако есть у неё и ещё несколько сопутствующих свойств. Первое – у неё неизменно блистательная красота. Никого, кто сравнился бы с ней в эффектности внешности, нет и в помине. Считается, это тоже её волшебный дар. Второе – её тело благоухает ароматами полевых цветов. В отличие от большинства дам ей не требуются духи, она никогда ими не пользуется. Ну и третье… Среди магических умений феи объятий имеется одно весьма своеобразное. Ей дано усмирять страсть мужчин. Если тот, кто обнимает её, вдруг становится излишне пылок, начинает физически желать её, и её это пугает, она в состоянии временно остудить его пыл. Ни одной фее прочих специализаций подобный талант не свойственен.
Фея призыва – довольно редка, практически не способна колдовать за исключением призыва забавных существ-помощников. Всех этих существ создаёт в воображении. У неё всегда есть воображаемые друзья, уже с совсем малых лет, и она умеет их материализовывать. Одни из них выглядят как животные, только одетые и способные говорить, другие вполне человекоподобны, каждый со своими уникальными талантами, порой физическими, порой магическими, каждый с уникальной внешностью. Рост у всех примерно с трёх-пяти летнего ребёнка. Всего бывает четыре типа существ: 1) Защитники; 2) Помощники; 3) Товарищи; 4) Озорники. Первые выручают в бедах, оберегают, вторые подсобляют в делах, третьи милые и душевные, в чьей компании особенно тепло пребывать, четвёртые игривые и весёлые, с кем не заскучаешь. Чем сильнее фея призыва, тем больше у неё разнообразных существ, и тем больше она их способна призвать одновременно – слабая одного-двух, средней силы – четыре-семь, сильная при желании аж до дюжины. Некоторые существа могут колдовать, некоторые имеют необычные таланты, например, прохода сквозь стены. И ещё их нельзя убить. Получив серьёзное повреждение они исчезают, но через какое-то время восстанавливаются и их снова можно призвать. Чем чаще вызывается конкретное существо, тем оно развитее, опытнее, сильнее в талантах и навыках.
Фея погоды – умела в обращении с воздушными массами, может умеренно менять их температуру, изменять силу ветра, облачность, вызывать и устранять дожди. Феи крайне аккуратны во всём, что влияет на других, они не эгоистки, если какой-то из них, к примеру, хочется более жаркого денька, она не кинется тут же воплощать своё желание в жизнь, понимая, что кому-то нравится и прохлада. Однако климат в целом в землях кьюэнэ тёплый и не засушливый, а зим не бывает, и в какой мере это заслуга фей погоды… скажем так, учёным других стран сие неизвестно. В какой-то мере заслуга наверняка. Так или иначе, феи вмешиваются в погоду осторожно, стараясь предотвращать в первую очередь разгулы стихии. Ураганы, бури. Град. Если сильная засуха или наоборот опасность потопа, затяжные дожди день изо дня, обязательно вмешаются тоже. Ещё они умеют призывать радугу, но для этого им требуется праздничное настроение. Особый талант фей погоды – они чувствуют друг друга несмотря на огромные расстояния, чувствуют желания друг друга приложительно к погоде и способны согласовывать её усмирение, приводя в равновесие без противоречий меж собой, как бы умеют вырабатывать общую магию, направленную на один и тот же результат. Сила их далеко не безгранична. И колдуют они по-разному, потому не всегда и не всякую погодную аномалию даже совместными усилиями могут устранить. И всё же так или иначе они влияют на общую климатическую ситуацию в своих землях, улучшая оную и способствуя её большей комфортности и стабильности.
Фея-помощница – деловитая особа, которая очень любит наводить порядок в доме. Всё, что связано с уборкой, чисткой, стиркой, созданием уюта, перестановкой мебели, даётся ей очень легко. Производится это не по мановению руки, это требует именно действий, выполнения работы. Просто выполняется та не без помощи чар. У феи-помощницы извечно оживают мётлы, щётки, тряпки, вёдра, всё вокруг неё в движении, множество предметов трудятся дружно вместе с ней, стремясь быть ей полезными, при этом всё у неё спорится. Нет хозяйки лучше неё. Другим она тоже с удовольствием помогает, а ещё следит за порядком и на улицах, старясь наводить красоту. У высшей знати кьюэнэ в почёте в качестве служанок именно феи-помощницы. Благодаря магии одна такая барышня заменяет с десяток слуг-людей. Недаром во дворцах местных королей и лордов челяди гораздо меньше, чем в людских.
Фея посланий – умеренно редкая, весьма полезна тем, кто в разлуке. Легче всего ей даётся осуществление контактов через расстояния. Некоторых из обладательниц данной специализации так же называют почтовыми феями, но не всех, только очень слабеньких в смысле чар, кто преимущественно в силах лишь наделять письма и посылки крылышками, дабы те сами летели до адресата. Доставка выходит относительно небыстрой (по меркам кьюэнэ), зато требует минимальных усилий. В принципе даже одна такая способность уже превращает владеющих ей в весьма ценных с позиций любого другого народа. Ведь мы говорим о средневековье, в которое повсеместно во всех остальных странах корреспонденцию доставляют в лучшем случае гонцами, порой рискующими шеей, пробираясь по опасным территориям, порой тратящими месяцы, а бывает и годы в пути. А тут один взмах красивой ручки, несколько суток полёта… и никаких расходов – ни жалования гонцу, ни оплаты ему дорожных трат (за месяцы и годы), ни оплаты пользования лошадьми, каковым тоже нужен и корм в дороге, и уход, и место в конюшне при отдыхе на постоялых дворах. Но это самое простое, что могут феи посланий, самое необременительное для них, а могут они и многое другое, только уже не поголовно, в зависимости от индивидуальных силы и талантов. Кто-то умеет общаться телепатически, кто-то предоставляет возможность через отражения в воде или зеркале наблюдать желаемого индивидуума, кто-то в состоянии телепортировать письма и посылки мгновенно в дом к нужному лицу, кому-то по плечу связывать предметы (представьте две шкатулки с общим внутренним пространством – что ни положи в любую, можно достать из любой же, даже когда они за сотни вёрст друг от друга). Есть способные превращать письма в птиц, благодаря чему доставка существенно ускоряется – птица летит в разы быстрее предмета с крыльями. Ну и т.д. Самые могучие в истории феи посланий могли создавать порталы, правда не произвольно куда хотят, а через зачарованный предмет – доставляешь, к примеру, жезл в нужное место, втыкаешь в землю, и туда фея становится способна открыть портал. В большинстве королевств кьюэнэ есть придворная фея посланий при государе, что позволяет монаршим особам легко общаться меж собой и быть в курсе всех важных событий у соседей. В селениях, особенно в крупных городах, феи посланий предлагают свои услуги населению, дабы всякий мог передать весточку родне, живущей на отдалении. Это практически их профессия, они не просто никому не отказывают, на их домах извечно висит соответствующая вывеска – обычно с изображением запечатанного свитка между крылышками бабочки, но иногда и что-то другое. Указывая тем, что здесь вам рады помочь. Единственно, для сложной магии им требуется серьёзная причина – отправить письмо в полёт они в состоянии почти для любого, а вот телепортировать оное или связаться телепатически (если способны на подобное) лишь в особенных случаях, к примеру, когда проситель в беде, или если вдруг чем-то произвёл впечатление, пробудил к себе симпатию. Но опять же многое зависит и от силы феи – могучая нередко и сложное волшебство творит запросто. Любая магия фей посланий имеет ограниченное дальнодействие, большинство могут контактировать лишь с объектами на удалении до 800-2000 вёрст, у самых одарённых радиус чар порой достигает 10-12 тысяч вёрст. Но не далее. Даже письмо с крылышками вероятнее всего за пределы этого расстояния не улетит, утратит крылья и упадёт. Вес пересылаемого предмета в общем случае тоже имеет значение – чем массивнее, тем труднее отправить его в полёт или телепортировать. Сопутствующая способность фей посланий – отчётливо чувствовать, находится ли получатель в пределах досягаемости магии, наиболее опытные из них даже могут приблизительно определить расстояние до него – если он досягаем. Так же последнее служит безусловным свидетельством, что он жив (представьте, сколь ценно это для родни – отправляя весточку своему близкому уже точно знаешь об его здравии). Ещё одно достаточно уникальное их свойство – не все, но относительно многие из них в рамках своей специализации могут колдовать не только для невинных. Мы уже упоминали выше, что невинность важна при получении чудес от фей, лишь кьюэнэ и животные одариваются легко, всем прочим чудо надо заслужить. Но конкретно феи посланий, если сами того хотят или считают своим долгом, способны приделать к письму крылья для кого угодно. Любопытен факт, что из всех развитых цивилизованных наций только у кьюэнэ напрочь отсутствует практика голубиной почты. И феи посланий не последняя из причин, почему это так. Хотя есть и другие причины, коих, пожалуй, ещё две. Первая – феи не любят излишне обременять животных, понимая, что у тех свои заботы. Вторая – в краях кудесниц, способных наделять зверей речью и сознанием, выделять голубей в нечто особенное нет никакого смысла. Сообщение в крайнем случае может передать абсолютно любая живая тварь. Хоть мышка, хоть воробей, хоть орёл (мышка, естественно, при условии, что адресат недалеко).
Фея сияния – незаменима для празднеств, так же чрезвычайно полезна в быту. Потому что её магия – порождать свет. Кьюэнэ практически не пользуются ни свечами, ни лампами, во-первых, по причине того, что в их землях водятся во множестве светящиеся растения и существа. И во-вторых, благодаря феям сияния. Последние очень востребованы. Ничто не даётся им легче, чем создавать волшебством источники света. Им всегда хочется украсить тьму чем-то, что её озаряет. В будние дни это что-то одноцветное, белое или жёлтое, в праздники радость в их душах порождает свечение всех возможных цветов. Как и у всех фей, их магия в основном недолговечна, действует иногда часы, иногда дни. Но от того они лишь больше ощущают свою нужность. Если у кого-то неотложное дело, требующее ночной работы, к ним обращаются, если надо срочно отыскать что-то потерянное во тьме, тоже обращаются, улицы они освещают сами, считая то своей обязанностью. В селениях у кьюэнэ не темно в поздние часы. Во дворцах лордов во всех комнатах светло как в полдень. В домах знати хоть где-то да увидишь свет. Из отдельных окон жилищ плебеев он тоже доносится, довольно яркий, несопоставимый с немощным огоньком свечи. И никакой гари, никаких копти и подтёков воска. Заодно и вероятность пожаров много меньше. В праздники же феи сияния под вечер обходят все дома, зажигая в них свет по желанию хозяев. Это, можно сказать, добрая традиция, они словно приносят тебе на торжество ещё один подарок. Им все рады, и они радуются, делая другим приятное. Феи любят помогать. Даже если в населённом пункте есть одна фея сияния, там уже всегда будет освещение на улице во всей округе в достаточно обширном периметре от её дома и не будет проблемы для любого при нужде получить временный яркий фонарь. Но они довольно многочисленны, их и в небольших деревнях порой бывает несколько. А уж в городах… Недаром повсеместное уличное освещение неизменный атрибут последних. Вследствие того, что феям сияния часто приходится достаточно высоко взлетать, зажигая закреплённые на стенах фонари, в вечернюю пору они всегда переодеваются, сменяя короткие платьица на нечто вроде рабочей одежды, дабы соблюдать приличия. В разных странах у фей разные традиции насчёт нарядов для высоких полётов, так или иначе суть их всех в том, чтобы скрыть бельё от возможных чужих взглядов снизу. Подробней об аспектах одеяний фей мы расскажем позже. Женщины кьюэнэ не очень позитивно относятся к тому, что принижает их женственность. Всё хоть сколько-то шатноподобное напоминающее мужские вещи им надевать претит, и наколдовывать (создавать посредством волшебства) для себя трудно. Однако феи сияния исключение из данного правила. Они даже видят нечто положительное в вынужденности переодеваться всякий раз к вечеру, так как это даёт им повод по-иному подчеркнуть свою красоту. Посему когда надо сделать что-то не связанное с освещением, для чего нужно высоко взлететь, их зовут тоже, они с удовольствием откликаются. Магия фей сияния требует материальности создаваемого источника света. Иными словами, они могут наделить предмет свойством испускать свечение, но не могут заставить светиться просто воздух. Всегда нужен предмет. Некоторые вещи они умеют делать сияющим практически каждая, некоторым способы придать свечение только единицы. То есть они обладают как общими, так и индивидуальными талантами. Скажем, абсолютному большинству фей сияния по силам заставить светиться хрустальный или стеклянный шарик (недаром люстры у местных аристократов сплошь увешаны таковыми шариками, а не подсвечниками), палочку, бумажный фонарик, бутон цветка, листик растения, но редко какая в состоянии наделить свечением платье, или туфельки, или тарелочку, или шёрстку животного. Так же их способности безусловно очень зависят от настроения и от повода – в праздники и когда счастливы, они могут несопоставимо больше всего.
Фея снов – способна управлять чужими снами, проникать в чужие сны, делать их подобными яви по восприятию спящего. Превращает сон словно в волшебное путешествие, в приключение. Представьте сколь ценно и удивительно это для жителей эпохи, которая не знает телевиденья и фильмов. При том что оно гораздо лучше, ведь сон не созерцателен, ты там действующий персонаж, не только видишь и слышишь, но чувствуешь, да и чудеса с красотами в нём не требуют ни дорогостоящих спецэффектов, ни гениальных сценариев, ни воображения выдающихся оформителей – там всё и без этого удивляет масштабом и великолепием на каждом шагу, сон сам себе гений, а здесь в добавок навеян доброй магией и потому ещё более ярок. Это весьма уникальное волшебство, никому кроме феи снов не подвластное. Творить его она может тремя разными способами. 1) Усилением снов – когда они есть продукт подсознания того, кто их видит, просто отчётливей, красочней, насыщенней и очищены от дурных сюжетов. 2) Одариванием сном с конкретным сюжетом, т.е. фея влияет в той или иной мере на то, что в нём будет. 3) Проникновением в сон, когда фея становится там сама действующим лицом, может сознательно общаться со спящим и управлять его грёзами изнутри, а он будет в состоянии вполне осознано общаться с ней. Первый вариант возможен лишь для того, кто уже спит, и фея должна находиться рядом. Второй можно наложить заранее на бодрствующего в течение дня, тоже требуя непосредственного контакта с зачаровываемым. Третий фея снов способна осуществлять лишь из собственного сна, т.е. должна в этот момент спать и сама, зато она имеет шанс попасть в сон любого, о ком знает, где бы тот не находился, сколь далеко от неё. Что позволяет ей, к примру, видеться фактически как наяву с живущими в других краях близкими родственниками. Единственный недостаток снов – существует высокая вероятность их забыть после пробуждения. И в третьем варианте это касается и самой феи – проснувшись, она может и не вспомнить, что посещала чьи-то грёзы и говорила с их обладателем. Сопутствующая способность фей снов – в здании, где они находятся, какого бы размера оно ни было, сны у всех становятся ярче и красочнее, никому не снятся кошмары и ни у кого нет бессонницы. Безусловно, всё это не действует на существ с иммунитетом к магии. Помимо управления снами феям снов как правило легко даётся временное одушевление предметов. Так же они лучше большинства прочих фей в создании иллюзий.
Фея справедливости – наиболее тонко чувствует души и эмоции окружающих, поможет двум любящим сердцам простить друг друга, если они обижены, рассудит в споре и ссоре, кто прав кто нет, точно укажет виновного в проступке или преступлении, может наказать и вознаградить соответственно за провинности и хорошие дела, скажет наверняка девушке, выбирающей жениха, с кем та будет наиболее счастлива (правда это не предсказание, это относится именно к отношениям, к примеру, оно не гарантирует, что суженый проживёт долго). За пределами земель кьюэнэ хорошо известна прежде всего за свою способность определять виновных в преступлениях. Однако как и все феи, может легко творить чары лишь для невинных или в награду за какой-то добрый поступок. То есть представителям иных рас способна помочь далеко не всякому и не всегда. В истории не раз бывало, что короли эльфов, гномов и даже вожди орков обращались за помощью к феям с просьбой назвать имя вора чего-то важного для них или убийцы кого-то близкого. Фее справедливости, в отличие от феи возмездия, не требуется быть на месте преступления. Но она будет не в силах установить виновного, если тот имел какие-то праведные мотивы – мстил за сходные обиды, к примеру, или если жертва сама не отличалась излишней праведностью. В королевствах кьюэнэ серьёзных преступлений практически не бывает, потому и феи справедливости воспринимаются здесь в гораздо более невинном ключе, как эдакие специалистки по отношениям. Так же они популярны в качестве свах. Сопутствующая их способность – располагать к откровенности. Этому можно воспротивиться и воспрепятствовать только если прилагать усилия, постоянно контролировать себя. Иначе вы обязательно вдруг обнаружите, что буквально изливаете душу. Причём данное свойство фей справедливости действует даже на существ с иммунитетом к магии, что крайне необычно.
Фея трёх желаний – удивительна тем, что легко творит чудеса на заказ. Обычно феям это трудно, у них почти бесполезно просить то или другое, они сами решают, чем одарить. Фея трёх желаний в силах выполнять именно просьбы, до трёх от одного просителя, если считает, что он по каким-то причинам того заслуживает. После исполнения третьего желания она для этого конкретного лица утрачивает способность колдовать на заказ, но на своё усмотрение одаривать его чудесами всё равно может. Как и всё феи, феи трёх желаний далеко не всемогущи, испрашивать вечную молодость или мировое господство у них бесперспективное дело. Зато им как правило легко даётся наколдовывание предметов. Это тоже весьма нерядовое их свойство, прочим феям проблематично создать что-то из ничего, они в основном преобразовывают – тыкву в карету, нищенские обноски в красивое платье. Феи трёх желаний могут и карету и платье сотворить именно из ничего. Но опять же только под заказ, по чужому желанию, а не по своему. На заказ им вообще удаётся гораздо более сложное волшебство. Такие вот они особенные. Чем сильнее фея трёх желаний, тем чудеснее вещь способна она явить. Слабая наколдует лишь обыденное, не содержащее в себе никакой магии, средней силы создаст нечто зачарованное, скажем, инструмент, который сам делает всё без мастера, истинно могучая порой может породить по-настоящему шедевральное чудо вроде ковра-самолёта или скатерти-самобранки. Надо только понимать, что могучие феи сродни великим гениям, появляются на свет редко. Не зря же в сказках у феи в большинстве случаев заказывают что-нибудь очень ординарное. Просто там всегда опускается момент, что иное она сотворить не в силах. Впрочем, следует иметь в виду, представители иноземных рас плохо разбираются в возможностях крылатых кудесниц и слишком зациклены на своём быте. Им не хватает воображения попросить то, что даже слабая фея легко наколдует чудесное. Ну например, сделать животное говорящим. Или оживить куклу. Представьте, какую выгоду мог бы извлечь бедняк из подобного дара – тут и продать не составит труда, за огромные деньги, и зарабатывать показами на ярмарках, обрести славу, стать знаменитостью, которую с радостью примут у себя даже лорды с королями. Но бедняки извечно заказывают нечто более приземлённое – одежду, инструмент, скот. Они мыслят своими категориями. А феи никогда не подсказывают и не советуют, считая, что не имеют права вмешиваться в таинство чужих желаний. К тому же подсказав, фея скорее всего не сможет выполнить желание, так как оно будет частью как бы её собственное.