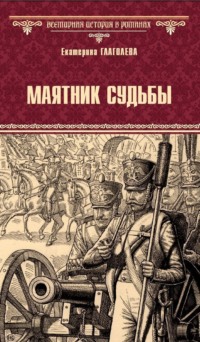
Маятник судьбы
Потолковав друг с другом, читавшие бумагу решили, что по весне надо ждать нового рекрутского набора. Черт бы побрал этих англичан, когда же они угомонятся-то!
5Солдату приказали читать громко и четко, чтобы все слышали. Ему было не по себе, несколько раз он останавливался и оборачивался, но, видя невозмутимое лицо генерала, читал дальше. По-польски Рапп понимал только отдельные слова, но тут и понимать было нечего: все прокламации русских составлены на один манер – что к баварцам, что к вестфальцам, что к полякам, что к городскому совету Данцига и простым обывателям. В них очерняли императора, выставляя его вероломным честолюбцем и бессовестным тираном, выражали сочувствие к его жертвам, которых он запугал или оболванил, призывали их подумать о своих семьях, обещали жизнь и неприкосновенность имущества, если они изменят присяге и откроют ворота. Солдаты сами приносили офицерам эти творения русского гения; генерал Рапп приказал зачитывать их перед строем. Скрывать и запрещать значило бы дать понять, что в этой писанине – правда, которой он боится. Он не боится. Он доверяет своим людям и рассчитывает на них.
Чтение закончилось в полнейшем молчании. Подумав, солдат разорвал бумагу на клочки и встал в строй. Его товарищи одобрительно зашумели. Рапп поднял руку, показывая, что хочет говорить; ропот смолк.
– Неприятель грозит нам штурмом, верно? – спросил он. – Не зря же они заказали столько лестниц в Вердере! Но лестниц для штурма мало: нужно иметь храбрость, чтобы подняться по ним, а этого не купишь ни за какие деньги.
Подождав, пока стихнет смех и задорные выкрики, он продолжил:
– Император собирает армию, чтобы прийти к нам на выручку. Ему нужно для этого время, и это время мы можем выиграть для него, если останемся на своем посту. Император не позабыл о вас, он верит в вас. Они же пытаются отнять у вас главное: надежду и веру. Они обещают вам жизнь, но лишь в обмен на честь. Они не верят, что смогут одолеть вас в честном бою. Они не надеются победить императора и Великую армию. Они не имеют понятия о чести, раз предлагают вам позорный путь измены, дезертирства и мятежа!
– Vive l'empereur![8] – выкрикнул кто-то.
Возглас тотчас подхватили, повторив его трижды. Генерал проехал шагом перед строем поляков, держа шляпу в поднятой правой руке. Его сердце обливалось кровью при виде своих солдат: отмороженные носы и уши, закутанные тряпками головы, звериные шкуры поверх мундиров, превратившихся в лохмотья… Некоторые даже опирались на костыль. Но это были воины! Нет, русским ничего не добиться своими прокламациями, не посеять в этих закаленных душах семена раздора и коварства! Рапп пустил коня вскачь, отправляясь на ежедневный обход.
Сама природа приложила все усилия, чтобы сделать Данциг неприступной крепостью: с севера его заслоняет Висла, с юго-запада – цепь крутых холмов, с других сторон – две небольшие речки. Еще до начала несчастного похода в Россию Наполеон приказал строить предмостные укрепления, форты, лагеря выше по течению Вислы, однако все это было лишь намечено, начато, не доведено до конца. Явившись сюда в декабре, Рапп нашел здесь одни руины, засыпанные снегом; замерзшие реки из преграды превратились в подъездные пути. Гарнизон состоял из скопища оборванцев всех наций: французы, немцы, поляки, голландцы, итальянцы, испанцы, даже африканцы – негры с Антильских островов, прежде служившие в пионерных ротах 7‑го линейного полка из Неаполя. Этакий топляк, выброшенный на берег, – большинство из них занесло в Данциг отливом отступавшей армии, а сил идти дальше уже не осталось. Магазины стояли пустые: ни хлеба, ни солонины, ни овощей, ни водки, ни лекарств для раненых – чем кормить и лечить всю эту ораву? Больных, способных ковылять по дороге, Рапп отправил на запад; в крепости осталось тридцать пять тысяч человек, из которых держать оружие могли тысяч восемь – десять, по большей части недавние рекруты, не успевшие хлебнуть лиха, но и не набравшиеся опыта. Однако генерал верил, что навыки постепенно придут, был бы хороший пример и внутренний стержень, который гнется, не ломаясь.
В трескучий мороз солдаты без жалоб и ропота рубили топорами лед и толкали льдины шестами к морю, пробив таким образом в Висле длиннющий канал больше двадцати аршин в ширину. Он снова покрылся льдом всего за одну ночь. Пришлось начинать все сначала. Наученный горьким опытом, Рапп приказал, чтобы ночью по каналу взад-вперед курсировали лодки, не давая воде замерзнуть, но и это не помогло. Однако люди оказались упорнее природы: лед кололи сутками напролет и победили. В это время другие отряды отогревали кострами промерзшую землю, от которой отскакивали ломы и лопаты, чтобы делать засеки, строить редуты, копать траншеи, насыпать брустверы.
Теснота и дурная пища привели с собой лихорадку, каждый день хватавшую новых жертв своими липкими горячими пальцами. В начале января умирало по полсотни человек в день, к концу февраля – до ста тридцати, не меньше пятнадцати тысяч горели в жару в переполненных больницах, среди вони от рвоты и испражнений. Русские знали об этих тяжелых обстоятельствах – заслали же они в город своего шпиона под видом итальянского патриота! – но почему-то не воспользовались ими, тратя время на жалкие интриги. Впрочем, среди осаждавших преобладали казаки, башкиры и прочее отребье – не такие войска штурмуют города.
Две недели назад полковник Хееринг, стоявший со своим отрядом в Штольценберге, поддался на их дразнящие маневры, совершенно зря спустился на равнину, напав на казаков с безрассудной отвагой, и потерял две с половиной сотни людей убитыми, когда его заперли в узком дефиле. Возгордившись, неприятель выступил несколькими колоннами к Лангфуру и сумел захватить этот поселок; тридцать его защитников, оставшиеся в живых, сдались в плен, расстреляв все боеприпасы; земля возле дома, из которого они отстреливались, была завалена трупами. Рапп тотчас приказал отбить важную позицию, и генерал Гранжан с четырьмя орудиями и восемью батальонами обратил русских в бегство, отразив их контратаки кавалерией. Ночью на Лангфур налетели кучи казаков, чтобы застигнуть врасплох неаполитанцев, которые сменили французов; за казаками шла пехота, но батальон поляков, вскочив по тревоге, примчался бегом и ударил в штыки… С тех пор солдаты на аванпостах постоянно были под ружьем, наблюдая за движениями неприятеля.
…Выстрелы прозвучали громче, чем обычно, – видно, из-за оттепели, сделавшей воздух влажным. Атака на аванпосты! Рапп разослал ординарцев с приказами; генерал Гранжан уже скакал к нему сам, они оба устремились к Лангфуру. Впереди трещали невидимые барабаны – французский пехотный батальон шел на русских в штыки. Генералы подоспели к победным крикам: три неаполитанских вольтижера рубили постромки убитых лошадей, впряженных в полевые орудия, но в этот момент неприятель навалился с новой силой, добычу пришлось бросить.
Со стороны Альт-Шотланда доносились яростные крики, стрельба, сабельный звон, женский визг – жители бежали под защиту города, унося с собой детей и жалкие пожитки, генерал Франчески медленно отступал, сдерживая натиск врага, полковник Бутлер со своими баварцами спешил к нему на помощь, вот враги уже сошлись в штыковой атаке… Рапп вовремя отвернулся, чтобы заметить колонну русских, наступавшую на Штольценберг, где оборонялся батальон капитана Клемана. Ему долго не продержаться… Ординарец поскакал к 6‑му Неаполитанскому полку с приказом занять соседнюю высоту, чтобы предупредить фланговое движение неприятеля. Пару секунд полюбовавшись тем, как генерал Пепе ведет неаполитанцев в атаку шагом, Рапп повернул коня и поскакал обратно к крепости.
Ленивое зимнее солнце уже спускалось к земле, не достигнув зенита, зато генерал Башелю во главе четырех батальонов упорно карабкался на высоты справа от Шидлица. Едва переведя дух, его солдаты обрушились на русских, которые засели в домах поселка и отстреливались из окон, бросив пушку. Пока Башелю отвлекал внимание, Рапп лично возглавил атаку на Альт-Шотланд, а Гранжан с батареей легкой артиллерии картечью выбил неприятеля из Оры, придав ему резвости штыками.
Сражение завершилось. Едва волоча ноги от усталости, солдаты бродили по местам боев, подбирая раненых и раздевая убитых. Навстречу Раппу ковыляли два поляка, один поддерживал другого, у которого вместо правой руки осталась культя, замотанная тряпкой. Лицо раненого было бледно даже под разводами грязи, но генерал узнал его: это он читал утром прокламацию перед строем, а потом порвал ее…
Как ни жаль, но старый монастырь капуцинов придется снести, думал Рапп. И каменные дома в Альт-Шотланде тоже: каждый такой дом, захваченный стрелками, превращается в форт; солдат слишком мало, чтобы жертвовать ими без оглядки. Конечно, жители будут роптать, они и так разорены войной, но сжечь несколько селений – единственный способ лишить врага укрытий и не пустить его в Данциг. За семь неполных лет генерал-губернатор прикипел душой к этому городу-республике. В нем видят защитника, на него смотрят с надеждой и верой. Здесь родились его дети – Анс и Адель. Данциг он не отдаст. Русские могут клясться сколько угодно, что не обидят мирное население, если их впустят добровольно, – Рапп знает, что случается с городом, когда туда ворвется солдатня.
6– Бить отбой! – приказал Винцингероде.
Трубач приложил мундштук ко рту и выдул две протяжные ноты с перепадом в октаву; ему откликнулись ротные сигнальные барабаны. Волконский недовольно нахмурился.
– Ваше превосходительство! Генерал Габленц от нас ускользнул, как бы и с Ренье того же не вышло – как бы не отдал он нам Калиша без боя!
– Отступающему неприятелю никогда не следует препятствовать, – спокойно отвечал ему Фердинанд Федорович, не отрывая от глаза подзорной трубы.
После утренней удачи генерал-майора Ланского, разбившего польский кавалерийский полк и захватившего его в плен вместе с полковником, принц Евгений Вюртембергский вздумал захватить Калиш со своею пехотой и, полагаясь на сильный огонь артиллерии, бросил солдат в атаку рассыпным строем. Храбрости принцу было не занимать, а вот рассудительности и военных знаний… Канонада, конечно, наносила городу урон, однако пехота занять его не могла: французы, засевшие в домах, стреляли отлично. Несколько атак были отбиты, Винцингероде решил не губить людей попусту: неприятель уйдет и так.
«Здра-жла, ваш-дительство!» – кричали солдаты с улыбками на чумазых лицах, проходя мимо генерала и его свиты. Трофеев было захвачено много, казаки гнали пленных; саксонский генерал Ностиц сам отдал Винцингероде свою шпагу. Пронесли на носилках бесчувственного генерала Запольского, бледного как полотно, хотя никаких ран на теле видно не было. Лекарь пояснил, что генерал опасно контужен.
Рыжие крыши Калиша медленно гасли, отчаянно ловя закатные лучи, прежде чем погрузиться в серую толщу сумерек. Шпиль костела походил на мачту тонущего корабля. Завтра он будет встречать солнце с востока, новый день приведет с собой новые порядки…
Город заняли на рассвете без боя. Авангард тотчас пустился в погоню за Ренье, чтобы не дать ему соединиться с недавно сформированным польским корпусом. У австрийской границы преследование пришлось прекратить; австрийцы согласились пропустить французов в Саксонию, но безоружными. Ружья сложили в обозные фуры, к артиллерии приставили австрийский конвой. Русские лишь провожали взглядом французов, отступавших к Глогау.
К прибытию в Калиш императорского кортежа трупы с дороги убрали, и кабы не обломанные тополя вдоль аллеи, отходившей от берега шумной Просны, ничто уже не напоминало о недавней адской пляске. Впрочем, смерть еще не собрала свою жатву до конца. Каждое утро в церкви отпевали не меньше десятка человек, которых потом хоронили с воинскими почестями. Погребальный звон, унылое пение, речитатив священника: «Упокой, Господи, душу раба Твоего…» немало смущали Александра Семеновича Шишкова, которому, в силу преклонных лет и слабого здоровья, и самому пора было задуматься о вечном. Общество министра полиции Балашова, с которым он делил квартиру, лишь усугубляло его тоску, а не развеивало: тому то и дело доставляли донесения о разных дурных слухах и повальных болезнях в российских губерниях, не так давно избавленных от ига иноземцев. В Смоленской и Минской собрали и сожгли девяносто семь тысяч тел, и то многие до сих пор валялись на земле, распространяя заразу. После таких известий и сам министр, и государственный секретарь являлись на обеды и балы, устраиваемые для съезжавшейся отовсюду шляхты, с довольно кислыми лицами.
Император же пребывал в превосходном настроении, получая донесения иного рода. Граф Витгенштейн прислал рапорт о взятии крепости Пиллау со всею артиллерией. Тысяча французов из гарнизонных войск вышла из города, покинув в нем пятьсот больных товарищей, пруссаки же остались. Русские пленные, заключенные в крепости, освобождены; один из них, рядовой егерского полка Юхан Идриг, представил генералу знамя французского батальона, которое он лично захватил в сражении под Ригой в прошлом сентябре, убив унтер-офицера, и во все пребывание свое в плену носил под рубашкой. Генерал-адъютант Чернышев и полковник Теттенборн, переправившись со своими отрядами через Одер, ворвались в Берлин, занятый корпусом маршала Ожеро, но не смогли там удержаться и отступили, захватив шестьсот пленных. Защищать прусскую столицу прибыл вице-король Италийский, однако задача эта непростая, поскольку нация поднялась на борьбу: после того как генерал Йорк с двадцатитысячным корпусом примкнул к русским войскам и перешел через Вислу, а генерал фон Бюлов с тридцатью тысячами солдат отказался выполнять приказы Наполеона, в разных прусских городах жители записываются в ландвер[9], формирование которого идет с усердием и быстротой, достойными восхищения, намного опережая рекрутский набор во Франции. Король Саксонский Фридрих Август покинул Дрезден, издав перед отъездом манифест о твердой своей надежде на успех и покровительство «великого Нашего союзника», – но, вероятно, не настолько твердой, чтобы без страха остаться в столице. Оборванные, обмороженные, больные солдаты брели по дорогам домой, на Эльбу и на Рейн, небольшими кучками и поодиночке, являя собой зримое воплощение разгрома, сея зерна недовольства и презрения к «гению», с чьей головы сорвали лавровый венок. Тайно распространяемые печатные листки со статьями Августа фон Коцебу превращались в угли под котелком, в котором кипело возмущение; в Любеке вспыхнуло восстание, изгнавшее оттуда французов, Гамбург подхватило волной народного гнева, поднимавшейся по Эльбе к границе Мекленбурга. Шведский кронпринц Карл Юхан уверял царя, что для воспламенения огромного пожара в Германии достаточно малой искры, и требовал обещанный ему русский вспомогательный корпус, чтобы вернуть себе шведскую Померанию.
Вот только полковник фон Кнезебек, присланный в Калиш прусским королем для заключения оборонительного и наступательного союза, был неподатлив как кремень и заносчив как петух. Спаситель короля (именно кавалерийская атака Кнезебека уберегла Фридриха Вильгельма III от неминуемого пленения при Йене) примерял на себя лавры победителя Наполеона, утверждая, что это он внушил императору Александру мысль об отступлении перед Великой армией, чтобы распылить и погубить ее. Теперь он требовал, чтобы Россия восстановила Пруссию в пределах 1806 года, вернув ей все прежние земли к востоку от Вислы. Рассудив, что besser kleiner Herr als grosser Knecht[10], Александр, не уведомив Кнезебека, отправил барона Анстедта, столь удачно заключившего перемирие с князем Шварценбергом, и барона фон Штейна из Русско-германского легиона в Бреслау, где теперь находился прусский двор. Всего за сутки договор был одобрен королем и подписан канцлером фон Гарденбергом; Анстедт привез его обратно в Калиш, и там его подписал генерал-фельдмаршал Кутузов.
«Полное истребление неприятельских сил, проникнувших в самое сердце России, подготовило великую эпоху независимости всех держав, которые пожелают воспользоваться ею, дабы избавиться от ига Франции, довлевшего над ними столько лет», – говорилось в начальных строках. Россия и Пруссия соединяли свои силы, обязуясь не заключать сепаратных договоров с Наполеоном и приложить все старания к тому, чтобы вовлечь в свой союз и Австрию. Старая коалиция возрождалась! Александр обещал Фридриху Вильгельму компенсацию убытков в случае перехода Варшавского герцогства под владычество России.
7«Сир, уроки истории отвергают идею о всемирной монархии, стремление к независимости можно заглушить, но не изгнать из сердца народов. Взвесьте все эти соображения, Ваше Величество, и подумайте хоть раз по-настоящему о всеобщем мире, во имя которого было кощунственно пролито столько крови.
Я родился в той самой прекрасной Франции, которой Вы правите, сир; ее слава и процветание никогда не будут мне безразличны. Однако, по-прежнему желая ей счастья, я буду защищать всей душой права призвавшего меня народа и честь государя, соблаговолившего назвать меня своим сыном. В борьбе между свободой мира и угнетением я скажу шведам: я сражаюсь за вас и вместе с вами; чаяния вольных народов поддерживают ваши усилия.
В политике, сир, нет ни дружбы, ни ненависти; существует лишь долг перед народами, управлять которыми нас призвало Провидение. Их законы и их привилегии – важные для них ценности, и если ради их сохранения придется отречься от старых связей и родственных уз, то государь, желающий исполнить свое призвание, должен принять решение не колеблясь.
Что касается до моих личных амбиций, признаюсь, что они велики: служить делу человечности, обеспечить независимость Скандинавского полуострова. Чтобы достичь этого, я полагаюсь на справедливость дела, которое король приказал мне отстаивать, на упорство нации и верность ее союзников. Каким бы ни было Ваше намерение, сир, относительно мира или войны, я все равно сохраню к Вашему Величеству чувства бывшего брата по оружию. Карл Юхан».
Перечитав написанное, Жан-Батист Бернадот удовлетворенно вздохнул. Пол кабинета был усеян снежками скомканных листков и брошенными с досады перьями, пальцы придется оттирать пемзой от чернильных пятен, но этим вариантом письма он остался доволен. Бернадот представил себе, как Бонапарт читает его послание. Возможно, и этот лист будет скомкан и брошен на пол, но уже другой рукой. Которая затем поднимет его и старательно расправит, чтобы после использовать как доказательство… Доказательство чего? Измены? Вероломства? Неблагодарности? Карл Юхан еще раз пробежал глазами письмо. Нет, ничего подобного. Все честно, откровенно и благородно.
Бонапарт не писал к нему сам, считая это ниже своего достоинства. В начале февраля генеральный консул Синьель привез из Парижа в Эребро, где собрался сейм, письма от герцога Бассано и «графини Готландской», не пожелавшей жить с мужем и сыном в холодном скучном Стокгольме и вернувшейся в Париж. Франция возобновляла свое предложение военных субсидий, если Швеция нападет на Финляндию; Дезире уверяла, что Бернадоту вернут все его владения во Франции и назначат триста тысяч франков ренты… Она явно писала под диктовку Бонапарта, да и Маре[11] не стал бы предлагать ничего, не одобренного императором, – к чему эти наивные уловки? Чтобы лишний раз показать, что Бернадот ему не ровня?
Вот здесь-то Бонапарт как раз сильно ошибается! Что бы ни мнил о себе император французов и король Италии, в какие бы одежды он ни рядился и какие бы венцы ни возлагал на головы своей родне, в глазах всех прочих монархов мира он узурпатор. Да и не только в глазах монархов, иначе Наполеон не приказал бы береговой охране перехватывать воззвание графа Прованского, брата казненного короля, который провозгласил себя Людовиком XVIII. Британский премьер-министр лорд Ливерпуль велел английским военным кораблям, крейсировавшим у французских берегов, доставлять эти прокламации на сушу для распространения. Король-изгнанник взывал к соотечественникам из замка Хартвелл, надеясь с их помощью вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву рождения. Он обещал оставить в неприкосновенности органы управления и правосудия, сохранить места за чиновниками, которые присягнут ему на верность, запретить преследования за прошлые прегрешения, не отнимать ни дарованной узурпатором собственности, ни армейских чинов и орденов, не посягать даже на гражданский Кодекс, замаранный именем Наполеона, зато отменить воинскую повинность, избавив граждан от службы в армии. И пусть толстяк Прованс сейчас никто, как и его брат Артуа, – стоит маятнику качнуться в другую сторону, и их голубая кровь перевесит на политических весах море красной крови, пролитой корсиканцем. А Бернадот – иное дело. Да, он гасконец и маршал Франции, но титул шведского кронпринца он получил не от Бонапарта! Шведы сами призвали его, Карл XIII объявил его своим сыном, Карл Юхан – законный наследник престола! Более того, несколько депутатов сейма даже высказались в пользу того, чтобы изменить Конституцию, увеличив прерогативы короля, – зная, что королем станет он, Бернадот. Если бы это предложение вынесли на голосование, его бы приняли, требовалось только его согласие. Карл Юхан провел несколько часов в мучительных раздумьях – и отказался. Бонапарт бы ухватился за такую возможность обеими руками, но он – не Бонапарт, отрекающийся от идеалов ради собственной выгоды. Приехав в Швецию, Бернадот поклялся соблюдать Конституцию! Он не обманет доверия своего народа.
Император не поверил в его искренность, иначе Маре не представил бы в своем письме войну между Францией и Швецией как гражданскую. Ничего подобного! Франции никогда не повелевать Швецией, Бернадот – не орудие Бонапарта, теперь он швед! В начале марта Англия подписала с ним союзный договор: она не станет возражать против присоединения к Швеции Норвегии, уступит Гваделупу, которую генерал Эрнуф уже передал англичанам, предоставит корпус в тридцать тысяч человек и субсидию в миллион фунтов стерлингов для войны с Наполеоном.
Черт побери… Вернуть занятую французами шведскую Померанию, отобрать у Дании Норвегию – это одно, но воевать против Франции… Дезире беспрестанно напоминает Карлу Юхану о том, откуда он родом, и ее сестра Жюли, и старые друзья… Конечно, за их спиной маячит Бонапарт – к черту Бонапарта! Как смеет он, корсиканец, делать их милую родину своей заложницей?..
Император Александр пару раз намекнул Бернадоту, что французы предпочли бы видеть на троне соотечественника, имеющего заслуги перед родиной (а разве не Бернадот отвел от Франции угрозу, когда англичане высадились на Вальхерене?) и способного положить конец нескончаемым войнам, заключив мир с приязненно настроенными к нему державами. Что для французов Бурбоны? Тридцать лет – срок немалый: уже целое поколение, а то и два знает о них только по рассказам отцов и дедов, их давно убрали в сундук вместе с парчовыми кафтанами и напудренными париками. Можно начать все с чистого листа. Два века назад уроженец Беарна, и не мечтавший о французском троне, явился и завоевал Париж, основав новую династию вместо выродившейся[12]. Почему же другой его земляк не сумеет повторить этого теперь? Иоанн III Бернадот… Или все же Карл ХIV Юхан? Не прогадает ли он, подобно лафонтеновской собаке, польстившейся на отражение в воде и выронившей добычу, которую держала в пасти? Оскар уже неплохо говорит по-шведски, даже служит иногда отцу переводчиком…
Дезире избалована и легкомысленна, она хочет жить, ни в чем не нуждаясь и не доставляя себе никаких неудобств. Она предпочла быть графиней Готландской в Париже, чем принцессой Дезидератой в Стокгольме. И Жюли такая же. Почему она сейчас не с мужем в Испании? Жозеф ведь король! Конечно, им обеим хотелось бы остаться в столице, сохранив и титулы, и богатство, и образ жизни, потому они так и хлопочут. Но что это значит для него, Бернадота? Не может же он ради женского каприза пожертвовать доверием целой нации!
Хотя что это он размечтался о французском троне? На нем все еще сидит Бонапарт. Лорд Каслри уверен, что с ним можно вести переговоры, если он проявит достаточно благоразумия. А Бонапарт не глуп и умеет действовать по обстоятельствам. Да и австрийский император предпочел бы видеть свою дочь по-прежнему французской императрицей, а без помощи Австрии Бонапарта вряд ли удастся принудить к миру.
Да: чушь, глупости, химеры! Пора вернуться на землю! А если точнее – в Штральзунд. Адлеркрейц уже готов отплыть туда с шестью тысячами пехоты, кавалерией и артиллерией; Сандельс соберет под шведские знамена померанскую молодежь – не меньше пятнадцати тысяч солдат. Конечно, оба предпочли бы воспользоваться моментом и отвоевать у русских Финляндию, пока Александр с главной армией находится за границей. Не для того ли шведы и призывали французского маршала? Но это все в прошлом; к тому же Бернадот связан по рукам и ногам – договорами с Россией и с Англией. Никто не назовет его вероломным! Без помощи этих держав не захватить Норвегию, которая вполне способна заменить Финляндию. Поэтому Карл Юхан через пару недель сам отправится в Померанию и привезет туда еще десять тысяч солдат. К тому времени русские, пожалуй, дойдут до самой Эльбы, и вот тогда… Тогда и посмотрим, а сейчас нечего думать о пустяках.

