– Смотри, парень! – воскликнул он. – Эту тощую шею когда-то украшали пять золотых цепочек. Сам фараон собственноручно надел их на меня. Кто может сосчитать отрубленные руки врагов, которые я сложил перед его шатром? Кто первым взобрался на стену Кадеша? Кто, как разъяренный слон, сеял смерть и смятение во вражеских рядах? Это я, Интеб, герой! Но кто теперь меня за это возблагодарит? Золото мое пошло бродить по свету, рабы, добытые на войне, разбежались или поумирали. Правая рука моя осталась в стране Митанни, и быть бы мне уже давно уличным нищим, если бы не добрые люди, которые время от времени приносят немного сушеной рыбы да пива за то, что я рассказываю их детям правду о войне. Я, Интеб, великий герой, но ты погляди на меня, сынок. Молодость моя осталась в пустыне, где я познал голод, болезни и тяжкий труд. Там высохло мясо на моих костях, там задубела моя кожа, там ожесточилось сердце. И что хуже всего, в безводных пустынях пересохли язык и глотка, и я заразился вечной жаждой, как всякий воин, кому посчастливилось вернуться живым из походов в далекие страны. Поэтому жизнь моя стала как теснина загробного мира с тех пор, как я потерял руку. И я не хочу даже поминать о боли, ранах и страданиях, причиненных мясниками-хирургами. Они ведь сперва отпилят руку, затем обваривают култышку в кипящем масле, это твой отец прекрасно знает. Да будет благословенно имя твое, Сенмут, справедливый и добрый, но вино кончилось.
Старик замолчал, отдышался, сел на землю и, уныло покачав головой, перевернул глиняную кружку вверх дном. Дикий огонь в глазах его погас, и передо мной опять был старый, несчастный человек.
– Но воину не надо уметь писать, – робко прошептал я.
– Хм… – произнес Интеб и бросил взгляд на моего отца.
Отец быстро снял одно медное кольцо с запястья и протянул старику. Тот громко закричал, и тут же прибежал грязный мальчишка, взял кольцо и кружку и отправился в кабачок за вином.
– Не покупай лучшего! – крикнул Интеб ему вдогонку. – Возьми хоть кислого, его дадут больше! – Он опять обратил ко мне задумчивый взгляд. – Ты прав, – сказал он, – солдату не нужно уметь писать. Он должен лишь уметь сражаться. Если бы он умел писать, он был бы начальником и командовал солдатами, даже самыми доблестными, и посылал бы других в бой впереди себя. Потому что любой грамотный годится на то, чтобы командовать, но даже начальником сотни не назначат того, кто не умеет царапать тростниковым пером по папирусу. Что проку в золотых цепях и почетных знаках, если командует тот, у кого в руке тростниковое перо? Но так было, и так будет всегда. Поэтому, сынок, если хочешь командовать воинами и управлять ими, научись прежде писать. Тогда украшенные золотыми цепями будут повиноваться и кланяться тебе и рабы понесут тебя на поле боя в носилках.
Грязный мальчишка вернулся с кувшином и кружкой, полными вина. Лицо старика озарилось радостью.
– Отец твой Сенмут – хороший человек, – сказал он любезно. – Он умеет писать и лечил меня в дни моей силы и счастья, когда я, заливаясь вином, повсюду начал видеть крокодилов и бегемотов. Он славный муж, хоть всего лишь лекарь и ему не под силу натянуть тетиву лука. Спасибо ему!
Я с ужасом смотрел на целый кувшин вина, за который Интеб явно хотел приняться, и начал нетерпеливо дергать отца за широкий, испачканный снадобьями рукав, ибо мне было страшно, что из-за этого вина мы скоро проснемся избитыми в какой-нибудь уличной канаве. Отец мой Сенмут с грустью посмотрел на кувшин, тихо вздохнул и, повернувшись, повел меня прочь. Интеб дребезжащим старческим голосом запел сирийскую походную песню, а голый, черный от загара мальчишка слушал и смеялся.
В тот вечер я, Синухе, похоронил мечту о воинской карьере и уже не сопротивлялся, когда на следующий день отец и мать повели меня в школу.
4
У отца, разумеется, не было средств на то, чтобы определить меня в большую школу при храме, – в таких школах учились сыновья знати, богачей и жрецов высшего чина. Моим учителем стал старый жрец Онех, живший от нас всего лишь через две улицы; он занимался с нами у себя дома на ветхой, покосившейся террасе. Его учениками были дети ремесленников, торговцев, портовых надсмотрщиков и младших офицеров, чьей честолюбивой мечтой была карьера писца. Онех в свое время служил складским учетчиком в храме, так что он вполне мог дать начальные навыки письма детям, которые впоследствии должны будут учитывать, сколько принято и отпущено товаров, мер зерна, голов скота, или выписывать счета за продовольствие для солдат. В Фивах, этом огромном городе, были десятки и сотни таких маленьких школ. Учение стоило дешево, потому что ученики должны были лишь содержать старого Онеха. Сын угольщика приносил древесный уголь для его жаровни, сын ткача снабжал его одеждой, сын зерноторговца обеспечивал мукой, а мой отец лечил от множества старческих недугов, давал облегчающие боли снадобья – настои трав, которые надо было пить с вином.
Благодаря этой зависимости Онех был нестрогим учителем. Если кто-нибудь из нас засыпал над письменной дощечкой, то вместо наказания розгами отделывался тем, что на следующий день притаскивал старику какой-нибудь лакомый кусок. Иногда сын зерноторговца приносил из дому кувшин пива. В такие дни мы внимательно слушали нашего учителя, потому что старый Онех увлеченно рассказывал удивительные истории и приключения в загробном мире и сказки о небесной Мут, о создателе всего – Птахе и о других богах, которых он знал. Мы хихикали, думая, что ловко провели его, так, что он на весь день позабыл трудные уроки и нудные письменные упражнения. Лишь гораздо позднее я понял, что старый Онех был более мудрым и тонким учителем, чем нам казалось. В сказаниях, оживляемых его по-детски чистым воображением, был известный расчет. Таким образом он учил нас нравственным законам древнего Египта. Всякое зло не останется безнаказанным. В свое время пред высоким троном Осириса будет без снисхождения взвешено сердце каждого человека, и тот, чьи злые дела выявятся на весах бога с головой шакала, будет брошен на съедение Амт, а Амт – это крокодил и бегемот в одном лице, но страшнее их обоих.
Он рассказывал также о мрачном боге с лицом, обращенным назад, ужасном перевозчике через реку в загробное царство. Без его помощи ни один умерший не попадет в край вечного покоя. Он гребет, всегда глядя назад, а не вперед, как земные лодочники на Ниле. Онех заставил нас вытвердить наизусть слова заклинаний, с помощью которых можно уговорить и задобрить Глядящего вспять. Мы многократно переписывали эти обращения, а он терпеливо, с мягкой настойчивостью поправлял наши ошибки. Тем самым он хотел нам внушить, что малейшая ошибка может сделать невозможной счастливую жизнь в Стране Заката, а если мы дадим Глядящему вспять неграмотное письмо, то на веки вечные останемся бродячими тенями на пустынном берегу мрачной, темной реки или, того хуже, попадем в страшные пропасти подземного царства.
Несколько лет я ходил в школу Онеха. Отец считал, что нельзя насильно навязать человеку профессию, если к ней не лежит душа, и, если бы я не проявил способностей, он не стал бы делать из меня писца. Правда, тогда я этого еще не знал.
Самым интересным моим товарищем в школе Онеха был Тутмес. Старше меня на два года, он с малых лет привык обращаться с лошадьми и знал приемы борьбы. Его отец командовал группой боевых колесниц, носил знак своей власти – кнут с вплетенными в него медными проволоками и мечтал сделать из сына великого полководца, для чего и послал его учиться письму. Но его славное имя Тутмес не стало вещим предзнаменованием вопреки надеждам отца. Ибо, поступив в школу, он забросил метание дротиков и конные упражнения. Письменные знаки давались ему легко, и, пока остальные ребята корпели до изнеможения над своими дощечками, он рисовал что в голову взбредет – боевые колесницы, вздыбленных коней, сражающихся воинов. Он принес в школу глину и совершенно преобразил пивной кувшин, оживляя Онеховы сказки. Он изобразил уморительнейшую Амт, неуклюже разинувшую пасть, чтобы проглотить маленького, сгорбленного, лысого старичка с обвисшим брюшком, – в последней фигуре нетрудно было узнать Онеха. Но Онех не рассердился. Да и никто не мог сердиться на Тутмеса. У него было простое, широкое крестьянское лицо и толстые, короткие ноги, но в его глазах всегда горели веселые искорки, а его ловкие руки искусно лепили из глины всевозможных животных и птиц, доставлявших нам истинную радость.
Во время учебы со мной произошло чудо. Это случилось внезапно, так что я и сейчас еще вспоминаю тот миг как откровение. Был ласковый весенний день, в воздухе звенели птичьи голоса, и аисты хлопотливо чинили гнезда на крышах домов. Вода уже сошла, и земля вспыхнула свежей зеленью. На огородах высаживали рассаду. Такой день звал к увлекательным приключениям, и мы никак не могли усидеть спокойно на рассохшейся террасе Онеха, из стен которой вываливались кирпичи. Я рассеянно выводил нудные буквы, которые высекают на камне, а рядом с ними сокращенные скорописные знаки. Как вдруг какое-то уже забытое слово Онеха будто сдвинуло что-то во мне и разом оживило написанное. Из картинки возникало слово, от слова отделялся слог, слог становился буквой. Соединяя друг с другом картинки-буквы, можно было получать новые слова – живые, странные слова, которые уже не имели ничего общего с картинками. Картинка понятна даже простому поливщику полей, но две картинки, поставленные рядом, может понять только грамотный. Мне думается, каждый, кто учился искусству письма и научился читать, испытал нечто подобное тому, о чем я говорю. Для меня это было событием более волнующим и увлекательным, чем украденное из корзины торговца гранатовое яблоко, более сладким, чем сушеный финик, и столь же желанным, словно вода для жаждущего.
С тех пор меня больше не нужно было уговаривать. С тех пор я впитывал науку Онеха, как сухая земля – воду разлившегося Нила. Я быстро научился писать. Понемногу я научился также читать написанное другими. На третий год я мог уже читать вслух старые потрепанные свитки, чтобы другие писали под диктовку разные поучительные истории.
В то же время я заметил, что я не такой, как остальные. Лицо у меня было у?же, кожа светлее, сложение более хрупкое, чем у соседских мальчишек. Я походил больше на детей знати, чем на людей, среди которых жил, и, будь у меня такие же одежды, вряд ли кто-нибудь смог бы отличить меня от тех мальчиков, которые разъезжали по улицам в носилках или гуляли, сопровождаемые рабами. Это вызывало насмешки. Сын зерноторговца попытался было обхватить мою шею руками и сказал, что я девочка, так что я был вынужден пырнуть его чертилкой. Близость его была мне неприятна, потому что от него дурно пахло. Я искал общества Тутмеса, но он никогда до меня и рукой не дотрагивался.
Однажды Тутмес робко предложил: «Если бы ты посидел передо мной вот так, я бы тебя вылепил».
Я привел его в наш дом, и во дворе перед смоковницей он вылепил из глины изображение, похожее на меня, и палочкой вычертил на сырой глине мое имя. Мать моя Кипа вынесла нам пирожков, но, увидев изображение, ужасно испугалась и сказала, что это колдовство. А отец сказал, что из Тутмеса может выйти царский художник, если он пойдет учиться в храмовую школу. И я в шутку поклонился Тутмесу, опустив руки до колен, так, как приветствуют знатных. Глаза Тутмеса заблестели, но он сказал со вздохом, что этому не бывать, так как его отец требует, чтобы он теперь же вернулся в воинский дом и готовился к поступлению в школу младших командиров боевых колесниц. Ведь для будущего военачальника он уже умеет писать достаточно хорошо и быстро. Отец мой ушел, Кипа долго еще ворчала на кухне, но мы с Тутмесом уплетали пирожки, такие вкусные и жирные, и нам было хорошо.
Тогда я еще был счастлив.
5
И вот настал день, когда отец мой оделся в лучшие, только что выстиранные одежды, на шею надел вышитый Кипой воротник и отправился в большой храм Амона, хотя в тайне сердца он и не любил жрецов. Но без их помощи и вмешательства ничего не совершалось в Фивах и во всей земле Египетской. Жрецы вершили суд и объявляли приговоры, так что дерзкий человек мог даже царский приговор обжаловать в храме в надежде получить оправдание. В руках жрецов находилось все обучение высшим профессиям. Жрецы предсказывали время разлива Нила и величину будущего урожая, таким образом определяя налоги по всей стране. Но зачем я это объясняю, ведь все опять вернулось к прежним порядкам и ничто не изменилось.
Думаю, отцу было нелегко пойти на поклон к жрецам. Он прожил жизнь, врачуя в квартале бедных, и отвык от храма и Дома Жизни. Теперь ему пришлось, подобно другим малосостоятельным родителям, стоять в очереди перед канцелярией храма и ждать, когда верховный жрец соблаговолит принять их. Я, как сейчас, вижу их перед собой, всех этих бедных отцов, одетых как на праздник и терпеливо сидящих во дворе храма с честолюбивой мечтой устроить своим сыновьям лучшую жизнь, чем та, что выпала на долю им самим. Многие из них приехали в Фивы издалека, плыли на лодках по реке, с запасом провизии на дорогу, истратились на подношения привратникам и писцам, чтобы попасть на прием к златокнижному, умащенному дорогими благовонными маслами жрецу. Он брезгливо морщится от их запаха, он говорит с ними резко, неприветливо. Однако Амону требуются новые служители. По мере того как растут его богатства и могущество, он привлекает на службу все больше и больше грамотных. И все же каждый отец считает за божескую милость, если ему удается устроить сына в храм, хотя на самом-то деле именно он приносит бесценный дар храму, отдавая туда свое дитя.
Моему отцу очень повезло, ибо, прождав полдня, он увидел проходившего мимо своего старого соученика Птахора, который к тому времени стал уже царским трепанатором черепов. Отец осмелился обратиться к нему, и тот обещал посетить нас собственной персоной, дабы взглянуть на меня.
К назначенному дню отец раздобыл гуся и лучшего вина. Кипа пекла хлеб и бранилась. Блаженный запах гусиного сала разносился из нашей кухни, так что нищие и слепые собрались на улице перед нашим домом, пытаясь петь и играть, чтобы получить свою долю на пиру, пока наконец Кипа не вышла с бранью и не раздала им по куску хлеба с гусиным жиром, только так их можно было спровадить. Тутмес и я подмели хорошенько улицу перед нашим домом, потому что отец посоветовал Тутмесу быть поблизости на тот случай, если бы наш гость – все может статься – вдруг захотел поговорить и с ним. Мы были еще мальчишки, но, когда отец зажег на террасе курильницу и дымок благовоний заклубился над нею, мы ощутили себя словно в храме. Я стерег кувшин с ароматной водой и отгонял мух от чистого льняного полотенца, которое Кипа приготовила для своей могилы, но теперь его достали из сундука, чтобы дать вытереть руки Птахору.
Нам пришлось ждать долго. Солнце село, и в воздухе повеяло прохладой. Курильница на террасе догорела, и гусь грустно шипел в яме-жаровне. Я проголодался, а у Кипы, моей матери, лицо вытянулось и застыло. Мой отец ничего не говорил, но с наступлением темноты не стал зажигать светильники. Мы все сидели на террасе, и нам не хотелось видеть друг друга. Тогда я узнал, как много горя и разочарований богатые и высокопоставленные могут небрежно причинить малым и бедным.
Но вот, когда уже иссякла надежда, в конце улицы показалось пламя факелов. Мой отец вскочил и бегом бросился на кухню, чтобы скорее зажечь обе масляные лампы. Я весь дрожал, прижимая к груди большой кувшин с водой. Тутмес стоял рядом, учащенно дыша прямо в ухо.
Царский трепанатор Птахор прибыл в простых носилках, которые несли двое рабов-негров. Впереди шел с факелом толстый слуга, явно пьяный. С радостными возгласами Птахор поднялся с носилок, приветствуя моего отца, а тот склонился перед ним, опустив руки до колен. Птахор положил руки на плечи отца, то ли желая показать, что такая торжественность ни к чему, то ли просто чтоб опереться. Так, держась за плечи отца, он пнул ногой слугу, несшего факел, и велел ему лечь под смоковницей да проспаться немного, чтобы хмель прошел. Негры бросили носилки под акациями и уселись на землю, не дожидаясь приказаний.
Опираясь на плечо отца, Птахор поднялся на террасу. Я слил ему воды на руки, хоть он и возражал, и подал ему льняное полотенце. Но он попросил меня вытереть ему руки, раз уж я их облил водой, а когда я исполнил это, он дружески меня поблагодарил и сказал, что я красивый мальчик. Отец усадил его на почетное место, на стул со спинкой, взятый взаймы у торговца пряностями. Он сел и поглядывал вокруг маленькими любопытными глазками. Некоторое время все молчали. Потом он кашлянул, как бы извиняясь, и попросил чего-нибудь – промочить горло с дороги. Отец обрадовался и налил ему вина. Птахор опасливо понюхал и пригубил, но затем осушил чашу до дна с видимым удовольствием и облегченно вздохнул.
Это был пожилой мужчина маленького роста, с выбритой наголо головой и кривыми ногами, дряблой грудью и животом, висевшим под тонкой тканью одежды. Его воротник был украшен драгоценными камнями, но засален, как и вся его одежда. От него пахло вином, по?том и мазями.
Кипа подала пряные булочки, крошечных рыбешек в масле, фрукты и жареного гуся. Он поел из вежливости, хотя, очевидно, приехал к нам после сытного обеда. Пробовал всего понемножку и каждое кушанье хвалил, к большому удовольствию Кипы. По его просьбе я отнес еды и пива неграм, но они ответили на мою любезность лишь скверными словами да вопросом: долго ли старик думает там сидеть? Слуга тяжело храпел под смоковницей, и у меня не было желания его будить.
Вечер получился довольно сумбурный, потому что и отец мой сильно захмелел, я никогда еще не видел, чтоб он столько выпил. Так что под конец Кипа уже сидела на кухне, схватившись за голову обеими руками и покачиваясь всем телом взад и вперед. Опорожнив кувшин покупного вина, они стали пить то, что было у отца для приготовления лекарств, а когда и с ним было покончено, пошло в ход обычное пиво, так как Птахор заявил, что он не привередлив.
Они вспоминали, как учились вместе в Доме Жизни, рассказывали анекдоты о своих учителях и обнявшись ходили по террасе, шатаясь и поддерживая друг друга. Птахор рассказывал о том, чего он добился как царский трепанатор черепов, уверяя, что это самая что ни на есть распоследняя для врача роль и она скорее подходит для Дома Смерти, чем для Дома Жизни. Но он ведь всегда был ленив, что мой отец, добрейший Сенмут, конечно же, прекрасно помнит, вот и выбрал для изучения череп, так как, по его мнению, это самое простое в человеке, не считая зубов, глаз, горла и ушей, которые требуют своих специалистов.
– Но, – сказал он, – будь у меня больше мужества, я бы стал обычным честным лекарем и давал бы людям жизнь, тогда как теперь мне суждено приносить смерть, если родственникам надоедает ухаживать за стариками или неизлечимыми больными. Лучше бы я приносил жизнь, как ты, друг мой Сенмут. Наверно, я был бы беднее, но вел бы более честную и трезвую жизнь, чем сейчас.
– Не верьте ему, мальчики, – сказал мой отец, потому что Тутмес тоже сидел с нами и держал в руке маленькую чашу вина. – Я горжусь тем, что могу назвать своим другом царского трепанатора черепов Птахора, крупнейшего во всем Египте знатока своего дела. Разве могу я забыть его удивительные вскрытия, которые столько раз спасали жизнь знатным и безродным и вызывали всеобщее изумление? Он выпускал наружу злых духов, которые доводили человека до безумия, и удалял их круглые яички из мозга больных. Исцеленные не знали, как и отблагодарить его, присылали золото, драгоценные ожерелья и кубки.
– Но еще больше дарили мне благодарные родственники, – сказал прерывающимся голосом Птахор. – Ибо если одного из десяти, одного из пятидесяти, нет, скажем, одного из ста я случайно вылечу, то уж остальным даю верную смерть. Слышал ли ты хоть об одном фараоне, который бы прожил более трех дней после вскрытия черепа? Нет, ко мне, с моим кремневым сверлом, отсылают лишь неизлечимых и безумных, и тем скорее, чем они богаче и знатней. Моя рука освобождает их от страданий, а наследникам раздает состояния, имения, скот и золото, моя рука возводит фараонов на престол. Поэтому они меня боятся, и никто не дерзает мне возражать, ведь я знаю слишком много. Но чем больше знаешь, тем больше печали в сердце, поэтому я несчастный человек.
Птахор прослезился и вытер нос льняным саваном Кипы.
– Ты беден, но честен, Сенмут, – продолжал он, всхлипнув. – Вот за что я люблю тебя, ибо я-то богат, но порочен. Гадок я, точно жидкая лепешка, оставленная быком на дороге.
Он снял с себя воротник, сверкавший драгоценными камнями, и надел на шею моему отцу. Потом они стали петь песни, в которых я не понимал и половины слов, но Тутмес слушал их с интересом и сказал, что даже в казарме он не слыхал более смачных песенок. Кипа на кухне начала громко плакать, а один из негров, сидевших под акациями, подошел, взял Птахора на руки и хотел отнести его в носилки, потому что давно пора было спать. Но Птахор закричал: «Караул!» – и стал уверять, что негр его убьет. От моего отца было мало проку, но мы с Тутмесом кинулись на негра с палками, и он убежал, страшно ругаясь, забрав с собой товарища и носилки.
Тогда Птахор вылил себе на голову кувшин пива, попросил масла, чтобы умастить лицо, и вдруг захотел искупаться в нашем водоеме. Тутмес шепнул мне, что надо уложить стариков спать, и вскоре мой отец и царский трепанатор повалились в обнимку на брачное ложе Кипы, бормоча заплетающимися языками уверения в вечной дружбе, пока сон не наложил печать на их уста.
Кипа плакала. И рвала на себе волосы, посыпая голову пеплом из очага. Меня тревожила мысль, что скажут соседи, потому что шум и песни разносились далеко в ночной тишине. Но Тутмес был совершенно спокоен и сказал, что видывал и похуже, когда в казарме или в доме его отца собирались воины и вспоминали былые времена и походы в Сирию и в страну Куш. Он уверял, что нам повезло, вечер прошел на редкость мирно, старики не послали в дом увеселений за музыкантами и девицами. Ему удалось успокоить Кипу, и мы, прибрав как могли следы пиршества, отправились спать. Слуга Птахора громко храпел под смоковницей. Тутмес лег рядом со мной, обнял рукой за шею и стал рассказывать о девицах, потому что он тоже выпил вина. Но я был моложе его на два года, так что мне было неинтересно, и я скоро уснул.
Рано утром я проснулся, услыхав какой-то стук и возню в спальне. Когда я заглянул туда, отец крепко спал и воротник Птахора по-прежнему был на нем, а Птахор сидел на полу, обхватив голову руками, и жалобно спрашивал: «Где я?»
Я приветствовал его почтительным поклоном и сказал, что он все еще находится в доме Сенмута, лекаря бедняков, в районе порта. Это его успокоило, и он попросил у меня – ради Амона – пива. Я напомнил ему, что он вылил на себя целый кувшин этого напитка, что видно по его платью. Тогда он встал, распрямился, важно нахмурил брови и вышел из комнаты. Я слил ему воды на руки, и он, охая, попросил меня полить на голову. Тутмес принес кувшин кислого молока и соленую рыбу. Перекусив, Птахор опять повеселел, подошел к слуге, спавшему под смоковницей, и начал колотить его палкой, пока тот не вскочил спросонья, весь измятый, в траве и в пыли.
– Грязная свинья! – сказал Птахор. – Так-то ты печешься о своем господине, освещая ему путь факелом? Где мои носилки? Где мое чистое платье? Прочь с глаз моих, жалкий вор!
– Я вор и свинья моего господина, – сказал слуга покорно. – Что прикажешь, мой владыка?
Птахор отдал ему распоряжения, и слуга отправился на поиски носилок. Птахор уселся поудобнее под смоковницей и, прислонясь спиной к ее стволу, прочел стихотворение, в котором говорилось об утре, о лотосах и о царице, купающейся в реке, и еще рассказывал много такого, что мальчики охотно слушают. Кипа тоже проснулась, разожгла огонь и пошла за отцом в спальню. К нам во двор доносился ее голос, и когда наконец отец показался на пороге, переодетый в чистое, вид у него был очень печальный.
– У тебя красивый сын, – сказал Птахор. – У него осанка царевича, а глаза нежны, как у газели.
Но хотя я был еще молод, я все же понимал, что он так говорит лишь для того, чтобы мы забыли, как он вел себя вчера вечером. Затем он спросил:



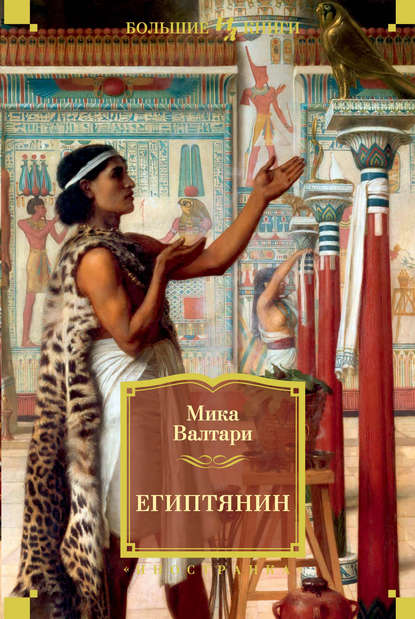




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0