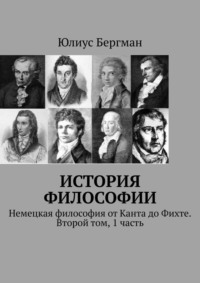
История философии. Немецкая философия от Канта до Фихте. Второй том, 1 часть
Он никогда бы не поддался на разрушающее всю чистую философию утверждение, что синтетическое суждение о связи следствий с их причинами «априори» совершенно невозможно и что все, что мы называем метафизикой, равносильно простому заблуждению, Если бы у него перед глазами была наша задача в ее общем виде, то он понял бы, что, согласно его аргументации, не может быть и чистой математики, поскольку она непременно содержит синтетические суждения a priori, и тогда здравый смысл, вероятно, уберег бы его от этого утверждения. " -Задача «Критики чистого разума» более подробно сформулирована Кантом в ответах на четыре вопроса. Поскольку существуют две науки, знание которых состоит из синтетических суждений «априори», – чистая математика и чистое естествознание, то общий вопрос, на который должна ответить «Критика чистого разума», – вопрос о том, как возможны синтетические суждения «априори», – содержит прежде всего два вопроса: как возможна чистая математика? и как возможно чистое естествознание? Как возможно чистое естествознание? Третий вопрос касается возможности такого синтетического знания a priori, которое, в отличие от математического и научного знания, выходит из области всевозможного опыта, мира чувств, поэтому, если называть вместе с Кантом олицетворением всех возможных синтетических знаний a priori из понятий метафизику, то метафизика, в той мере, в какой она хочет быть больше, чем чистое естествознание, или, если брать термин метафизика в более узком смысле, как это делает Кант в данном контексте, то возможность метафизики как таковой. Что касается метафизики в этом более узком смысле, то, поскольку она еще не стала реальностью, остается открытым вопрос о том, возможна ли она вообще. «Но в известном смысле, – говорит Кант, – такого рода знание также должно рассматриваться как данное, и метафизика, хотя и не как наука, тем не менее реальна как естественная диспозиция. Ибо человеческий разум неумолимо, не будучи движим к этому простой тщеславной целью, движимый собственной потребностью, переходит к таким вопросам, на которые нельзя ответить никаким эмпирическим применением разума и, следовательно, заимствованными принципами, и поэтому во всех людях действительно была и всегда будет некоторая метафизика, как только разум расширяет себя в них до уровня спекуляции». Таким образом, вопрос о критике разума применительно к метафизике может быть сформулирован следующим образом: Как возможна метафизика как естественная диспозиция, т.е. как вопросы, которые чистый разум ставит перед собой и на которые он вынужден отвечать по мере сил в силу собственной необходимости, вытекают из природы всеобщего человеческого разума? К этим вопросам Кант добавляет четвертый: Как возможна метафизика как наука? Смысл его, по-видимому, таков: Каким путем следует идти, чтобы сделать метафизику действительной, если под ней понимать воплощение всех тех синтетических познаний» priori из понятий, которые, согласно ответу на предыдущие вопросы, возможны, т.е. достижимы человеческим разумом?
Деление «Критики чистого разума» не выводится из этого деления вопроса, поставленного перед ней для ответа, но согласуется с ним. Кант сначала выделяет (в соответствии со своим делением формальной логики на общее элементарное учение и общее методологическое учение) две основные части: трансцендентальное элементарное учение и трансцендентальное методологическое учение. Если, по его словам, воплощение всего знания чистого и спекулятивного разума рассматривать как здание, о котором мы имеем в себе хотя бы представление, то элементарное учение намечает и определяет строительный материал, к какому зданию какой высоты и прочности он принадлежит; методологическое же учение не касается ни материала, ни плана; оно есть определение формальных условий целостной системы чистого разума.
Соответственно, из четырех приведенных вопросов первому придется отвечать на первые три, второму – на последний. Элементарное учение, которое по своему объему и значению значительно превосходит методологическое, Кант разделяет на трансцендентальную эстетику и трансцендентальную логику. Первая исследует чувственность, т.е. способность приобретать представления через способ воздействия на нас предметов, т.е. представления, через которые нам даются предметы, одним словом, взгляды, чтобы выяснить, способны ли мы через них к синтетическим суждениям a priori»; вторая с той же точки зрения рассматривает рассудок, способность, через которую мы мыслим предметы и из которой возникают понятия. Поскольку суждения математики приходят к своему синтезу с помощью наблюдения, а суждения чистого естествознания и метафизики – без него (см. выше), то самая трансцендентальная эстетика должна будет объяснить возможность математики, трансцендентальная логика – возможность чистого естествознания, а метафизика – возможность метафизики как естественной диспозиции. Трансцендентальная логика, в свою очередь, распадается на трансцендентальную аналитику и трансцендентальную диалектику. Аналитика показывает, что рассудок, в той мере, в какой он является способностью образовывать понятия и выносить суждения, способен к определенным синтетическим познаниям a priori об предметах, данных чувственности, т.е. о тех вещах, которые могут быть для нас предметами опыта, о физических вещах; Диалектика показывает, что рассудок, поскольку он способен рассуждать, или, что то же самое, поскольку он есть рассудок, неизбежно имеет ложную видимость способности к синтетическому познанию» priori» о вещах, доступных опыту, как будто он способен познавать и то, что недоступно опыту, – сверхчувственное, и, разоблачая эту ложную видимость как таковую, он отвергает гиперфизическое использование чистого рассудка (чистого разума) как необоснованную презумпцию. Соответственно, из двух вопросов – о том, как возможно чистое естествознание и как возможна метафизика как естественная диспозиция, – первый относится к аналитике, другой – к диалектике. – Под общим для всех этих названий эпитетом «трансцендентальный» Кант поясняет: «Я называю так чистое естествознание и метафизику как естественную диспозицию.
Кант поясняет: «Я называю трансцендентальным всякое знание, которое имеет дело не с предметами, а с нашим способом познания предметов, в той мере, в какой это предполагается возможным» priori» (пояснение, которое, кстати, не относится к многочисленным местам, где он использует это выражение). —
Из деления общего вопроса, на который призвана ответить «Критика чистого разума», и разделения работы в соответствии с ним уже видно, что Кант считает недостижимым знание того рода, к которому стремились прежние метафизики. Он отвергает ту часть прежней метафизики, которая имеет дело с понятиями, которые, по его выражению, никогда не даны ни в каком возможном опыте, например, понятия Бога, субстанциальной души, единого целого мира, и о которой он говорит, что она составляет существенный конец прежней метафизики, к которому все остальное служит только средством, и в ней заключается ядро и особенность этой науки. Он не считает возможными никакие другие синтетические познания a priori, кроме тех, которые относятся к той же области, что и познания a postoriori, к миру чувств или к природе, и поэтому может отличить будущую метафизику от того, что он называл чистым естествознанием, только тем, что она не будет простым набором пропозиций, которые предполагаются непосредственно определенными и используются как вспомогательные средства для эмпирического исследования, но все, что мы можем познать v. priori природы, выводится в систематическом единстве из природы человеческого разума, как это определяется критикой этого принципа, и тем самым доказывает его.
Этой точке зрения дается более подробное определение, в котором она относится к фундаментальной конституции «Критики» и которое поэтому придется изложить здесь, предваряя подробное изложение. Наша чувственность, или способность восприятия, говорит она, дает нам представления не о вещах самих по себе, а только о явлениях. Не только объекты внешнего чувства, тела, являются лишь видимостями, но и все, что мы воспринимаем внутренним чувством, способностью ума воздействовать на самого себя, воображать, мыслить, чувствовать, желать; не только пространство, но и время есть форма только видимости, а не вещей, каковы они сами по себе; пространство и время и все, что мы в них встречаем, не имеют, говоря словами Беркли, иного существования, кроме того, которое состоит в том, что они становятся воспринимаемыми. Если, следовательно, нашему разуму отказано в возможности познания за пределами мира чувств, то все знание, на которое он способен, имеет своим объектом лишь видимость; мы не можем знать ни малейшего о вещах, как они существуют сами по себе, независимо от наших представлений. В этом критика согласна с радикальным скептицизмом, утверждающим, что познание вещей как они есть невозможно; она отличается от него тем, что утверждает возможность познания мира видимостей, который тождественен миру чувств, и более тесно приписывает разуму способность априорного познания по отношению к этому миру.
С точки зрения Канта, существует самая тесная связь между учениями о том, что мир чувств – это феноменальный мир и что по отношению к нему возможно синтетическое априорное знание. Согласно Канту, мы можем иметь знание только о вещах самих по себе, о вещах, которые не зависят от нашего представления, о вещах, которые поэтому не могут быть ориентированы в соответствии с нашим представлением, но в соответствии с которыми наше представление должно было бы быть ориентировано, чтобы согласоваться с ними и быть знанием, если оно вообще возможно, только в силу того, что они даны нам в опыте, т.е. только знание a posteriori». Познание a priori, которое должно установить нечто о предметах до того, как они нам даны, возможно только в отношении вещей, которые ориентированы в соответствии с нашим способом представления, а это мыслимо только в отношении вещей, которые являются лишь явлением. Кант сравнивает изменение способа мышления в метафизике с тем, что мы признаем априорное знание о природе, а именно ее существование в пространстве и времени, применимость к ней математических истин и существование законов, составляющих содержание положений, входящих в чистое естествознание, например, закона причинности. Он сравнивает это изменение образа мышления в метафизике с тем, которое Коперник произвел в астрономии. «До сих пор, – пишет он в предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума», – предполагалось, что все наше знание должно быть направлено на предметы; но все попытки открыть в них нечто a priori посредством понятий, благодаря которым наше знание могло бы быть расширено, при таком предположении ни к чему не приводили. Попробуем поэтому, не добьемся ли мы большего прогресса в решении задач метафизики, если предположим, что предметы должны быть ориентированы в соответствии с нашим знанием, что уже более соответствует требуемой возможности знания о них a priori, т.е. установления чего-либо об предметах до того, как они нам даны. С этим дело обстоит так же, как и с первой мыслью Коперника, который, не добившись успеха в объяснении «движения небес», когда он предположил, что все множество звезд вращается вокруг наблюдателя, попытался выяснить, не будет ли более успешным, если он допустит, что наблюдатель будет вращаться, а звезды останутся неподвижными».
Если критика считает, что она доказала, что нашему познанию доступен только чувственный мир явлений, то она не требует, чтобы мы полностью отказались от ответов на вопросы, касающиеся сверхчувственного, в особенности на вопросы о существовании Бога, бессмертии души и свободе воли. Нам остается, как сказано в предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума», после того как спекулятивному разуму будет отказано в прогрессе в области сверхчувственного, попытаться выяснить, нет ли в его практическом знании данных для выхода за пределы всего возможного опыта. Если, другими словами, мы не можем получить никакого действительного знания в отношении сверхчувственного, то остается выяснить, не дает ли разум, поскольку он является практической способностью, т.е. поскольку он дает нам правила для наших действий, не дает нам чего-то, что мы должны признать, а требует от нас веры, из которой можно сделать надежные выводы, чтобы ответить на те вопросы, ради которых метафизика до сих пор делала все свои допущения.
Этот вопрос Кант рассмотрел в «Критике практического разума». Если мы верим, показывает он, что должны повиноваться некоему закону, который может исходить только из чистого разума, – моральному закону, то, следовательно, мы должны верить и в свободу воли, в бытие Бога, в бессмертие души. Критика чистого разума, как он полагает, отнюдь не отрицает права этой веры, а устраняет препятствия, которые ставит на ее пути факультет знания, посредством даваемых им указаний на наше неизбежное незнание вещей самих по себе. «Пришлось, говорит он, упразднить знание, чтобы освободить место для веры, и догматизм метафизики, т.е. предрассудок исходить из нее без критики чистого разума, есть истинный источник всякого неверия, противоречащего морали, которая всегда очень догматична». «Только через критику разума можно отсечь корень материализма, фатализма, атеизма, вольнолюбивого неверия, энтузиазма и самого суеверия.» —
Критику чистого разума с основанной на ней метафизикой природы (метафизикой физической природы, поскольку о явлениях, составляющих мыслящую природу, а именно о тех, которые мы воспринимаем внутренним чувством, психических, ничего, по крайней мере, не может быть определено» priori», как это было бы необходимо для специальной науки) Кант обобщает под названием чистой теоретической философии или чистой натурфилософии. Он противопоставляет ее чистой (неэмпирической) практической или моральной философии, не сообщая, как предположение о возможности последней может быть согласовано с наиболее общим результатом «Критики чистого разума», согласно которому человеческий разум не способен ни на какое другое синтетическое чистое знание, кроме того, которое относится либо к математике, либо к метафизике физической природы. Теоретическая философия имеет дело с законами природы, практическая – с законами свободы; первая имеет дело со всем, что есть, вторая – с тем, что должно быть. Практическая философия также основывается на критике разума, именно практического разума, т.е. разума в той мере, в какой он является способностью определять воление и действие. Часть чистой моральной философии, основанной на критике практического разума, Кант называет метафизикой морали. Задача критики практического разума – исследовать не то, возможно ли и как возможно практическое знание в синтетических суждениях» priori», метафизика морали, а то, существует ли чистый практический разум и чего он требует или по какому принципу определяет волю; она критикует не теоретический разум в отношении его использования для исследования того, что мы должны и чего не должны делать, а практический разум, обладает ли он такой способностью, как чистый разум.
Их наиболее общий вывод таков: чистый разум практичен; Если эмпирический разум в своем практическом применении говорит нам, что мы должны и чего не должны делать, чтобы реализовать цели, вытекающие из нашей естественной способности желать и заключенные в цели нашего собственного счастья, то чистый разум предписывает нам закон, который совершенно не принимает во внимание нашу эгоистическую, естественную способность желания и подчинение которому воли не может быть обусловлено ничем иным, кроме как уважением, которое вызывает в нас категорический императив действовать таким образом, чтобы практический принцип, которому соответствует действие, мог во все времена рассматриваться одновременно как принцип общего законодательства. Вера в обязательность этого закона – это та вера, которая, как уже говорилось, Кант считал возможным показать, что если она есть, то логически необходимо верить также в свободу воли, существование Бога и бессмертие души.
Критика чистого разума находится в отношении к метафизике природы в том смысле, что она является ее пропедевтическим «предварительным упражнением», а Критика практического разума находится в таком же отношении к метафизике нравов; Но, как добавляет Кант, метафизикой «можно назвать и всю чистую философию с эпитетом критики, чтобы подвести итог как исследованию всего, что может быть познано a proiri, так и изложению того, что составляет систему чистого философского знания такого рода, но которое отличается от всего эмпирического, а также от математического применения разума.»
Далее Кант приходит к выводу, что это разделение чистой философии (точнее, чистой материальной философии, выражение, которое будет вскоре разъяснено) является полным в отношении метафизики в строгом смысле слова, но требует дополнения в отношении критики разума. Ведь в рамках разума, или высшей способности познания (низшей способностью познания является восприятие или чувственность), следует различать три способности: понимание в более узком смысле слова, которое, хотя его сущность здесь не указывается, можно определить сначала как способность к понятиям, рассудок в более узком смысле слова, который можно определить сначала как способность к умозаключениям, и между ними, как промежуточное звено, способность к суждению. Теперь критика чистого разума показала в трансцендентальной аналитике, что понимание может достичь чего-то априорного, поскольку понимание – это способность, благодаря которой мы обладаем синтетическим знанием n priori, составляющим чистое естествознание; что, с другой стороны, претензия разума на то, что он может добавить к теоретическому чистому знанию понимания другой особый вид такого знания, а именно знание о сверхчувственном, является необоснованным предположением. Более того, в «Критике практического разума» было показано, что в практическом смысле разум в строгом смысле этого слова, а не рассудок, что-то делает, а именно дает закон воле. Таким образом, если в «Критике чистого разума» априорный принцип приписывается пониманию, а в «Критике практического разума» – рассудку, то власть суждения в обеих работах остается пустой.
Но есть основания по аналогии предположить, что и способность суждения содержит априорный принцип. Это предположение усиливается, если учесть, что все способности души можно проследить до трех, которые не могут быть далее выведены из общего основания: способности познания, способности желания и между ними, как промежуточное звено, способности удовольствия и неудовольствия, и что из трех высших способностей познания рассудок является априорным законом для способности познания (поскольку законы природы, которые рассудок признает априорно, могут быть также поняты как законы самого рассудка в его представлении и исследовании природы), а разум – для способности желания или воли. Ведь в соответствии с этим следует ожидать, что способность суждения, образующая промежуточное звено между рассудком и разумом, находится в родственных отношениях с чувствами удовольствия и неудовольствия, промежуточным звеном между способностью познания и способностью желания, в том смысле, что, хотя она не является априорным законом для последней, она, тем не менее, содержит принцип a priori, благодаря которому она заставляет вещи определенного рода быть предметами удовольствия и наслаждения для нас, тем самым определяя деятельность этой способности. Поэтому, помимо критики чистого разума (которую, собственно, и следует называть критикой теоретического или спекулятивного разума) и критики практического разума, должна существовать критика, рассматривающая разум (способность познания) с точки зрения его влияния как силы суждения на способность ощущения. Замечания Канта не дают никаких вразумительных сведений о том, почему за критикой суждения не следует метафизическая наука так же, как за критикой теоретического и практического разума.
По мнению Канта, три части «Критики разума» и две части «Метафизики» еще не составляют всей системы чистой философии. Целое, частью которого они являются, – это не чистая философия вообще, а чистая материальная философия, которая противопоставляется формальной философии, называемой логикой. Материальная философия, или метафизика, включая ее пропедевтику, критику разума, имеет дело с определенными предметами и законами, которым они подчиняются. Логика имеет дело лишь с формой рассудка и самого разума, с общими правилами мышления вообще, без различения предметов; она абстрагируется от всего содержания рассудочного познания и многообразия его предметов, от всякого отношения мысли к объекту и рассматривает, даже не заботясь о происхождении познания, лишь логическую форму в отношении познаний друг к другу, т.е. форму мысли вообще (чем она отличается от той части «Критики чистого разума», которая называется трансцендентальной логикой, так как в ней речь идет не о законах рассудка и разума вообще, а только о тех, которые касаются чистого использования этих способностей, и не абстрагируется от всего содержания знания, а концентрируется на определенном содержании, а именно на том, которое вытекает из самого рассудка и разума, и является, таким образом, наукой о происхождении, объеме и объективной истинности чистого знания о рассудке и разуме). Логика, как и критика разума и метафизика, относится к чистой философии. В ней, по словам Канта, нет эмпирических принципов, она является доказательным учением, и все в ней должно быть совершенно «априорно определенным». В своих работах он ничего не говорит о том, как она связана с различием между синтетическим и аналитическим знанием, должна ли она, как и материальная философия, состоять исключительно из синтетических суждений, достигается ли она полностью или частично путем простого деления понятий.
2. О суждениях критики
В связи с обоснованием и развитием идеи критики разума, изложенной выше, можно прежде всего усомниться в правильности того взгляда на метафизику, из которого она исходит. Действительно, метафизика до сих пор стремилась к знанию, которое нельзя извлечь из опыта, которое случайно для разума, и что в отличие от математики и чистого естествознания она не ограничивалась наукой о тех формах и законах предметов опыта, которые могут быть познаны a priori. И в этом тоже придется согласиться с Кантом, что это стремление к гиперфизическому знанию не было случайной аберрацией разума, а возникло из потребности в нем, которая заложена в его природе, в отношении которой можно быть уверенным, что она заявит о себе и в будущем и с которой наука должна, следовательно, каким-то образом примириться. С другой стороны, нельзя отрицать, что метафизика, поднимаясь над случайным для человеческого разума характером того, что дано нам в опыте, а также над необходимыми абстрактными формами и законами того же самого, чтобы ответить на вопросы, связанные с понятием бытия, Он утверждает, что оно отворачивается от всего, что нам вообще дано, и придерживается только тех понятий, к которым разум приходит после того, как абстрагируется от всего данного, и которые поэтому могут относиться только к миру, абсолютно потустороннему и никак не совпадающему с данным миром. Во всяком случае, Картезий, Спиноза и Лейбниц не были такого мнения. По их мнению, метафизика отнюдь не абстрагируется от всего данного, а только от того, что случайно для нее в данном; и то, что оставляет после себя эта абстракция, есть, по их мнению, не просто формы и законы, а конкретное бытие-в-себе, а именно Я самосознания. В Я-сознании они видели источник врожденных идей, а к ним принадлежали метафизические понятия, в отношении которых они, следовательно, никогда бы не признали, что они не выведены из наблюдения и что разум, имея с ними дело, покидает данный мир.
Допустим, однако, что против описания метафизики Кантом ничего нельзя сказать, что эта наука действительно отказывается от всякого наблюдения, но из этого еще не следует, что ей должна предшествовать наука, определяющая a priori возможность, принципы и объем всякого знания. Если, как учит сам Кант, разум неумолимо, не будучи побуждаем к этому одной лишь суетой объективного знания, движимый своей собственной потребностью, идет к вопросам, на которые стремится ответить метафизика, – если эти вопросы возникают не из какого-либо инстинкта, направленного на познание, не из необоснованных предпосылок или предвзятых мнений, а из природы всеобщего человеческого разума, то метафизика, как и другие науки, имеет право без лишних слов взяться за решение своей задачи и продолжать работать над ней в соответствии с общими правилами научной процедуры до тех пор, пока не достигнет точки, дальше которой она может продвинуться только с помощью знания, которое должна дать другая наука, но которое еще не дано ей. Столь же мало, как и задача метафизики, из ее предыдущей судьбы можно извлечь доказательство того, что она должна начинать с исследования способности разума к знанию того рода, к которому она стремится. Если бы, в самом деле, что также можно оспорить, ее усилия до сих пор были простым нащупыванием, если бы ее предыдущие попытки действительно были совершенно безуспешными, если бы всякий, кто снова брался за ее план, должен был начинать все сначала, этого все равно было бы недостаточно, чтобы оправдать требование, чтобы все метафизики воздерживались от новых попыток, пока не будет проведена критика способности разума к метафизическому знанию.