Кабаков же стал самым концептообразующим российским художником. «Всякий мнит себя стратегом», но Кабаков действительно разрабатывал направления главных ударов: текстуальная установка, тотальная инсталляция, амбивалентность позиционирования и др. Все они в большей или меньшей степени имеют отношение к нашему сюжету.
Текстуальная установка предполагает процедуру тотального комментирования. Процедура комментирования сродни понятию успешного речевого акта («How to do things with words» – так называется книга основоположника теории речевых актов Д. Остина, утверждавшего, что существуют глаголы, не описывающие, но творящие реальность). Комментирование процессуально и не имеет окончательности, то есть истины в последней инстанции. Это вызывает потребность в постоянной смене позиций наблюдателя (и наблюдателя наблюдателя), вообще, проблематика позиционирования – нерв московского концептуализма.
И. Кабаков и В. Пивоваров уже в ранних своих вещах настаивали на имперсональности (или, наоборот, универсальности) своего опыта. Соответственно, они уступали повествование многочисленным «рассказчикам» вроде Вшкафусидящего Примакова или Вокноглядящего Архипова (Кабаков), или «действующим лицам», или «агентам» (позднее Пивоваров, И. Макаревич и Е. Елагина), олицетворяющим топографическую и пространственную ситуацию позиционирования. (И. Макаревич впоследствии в инсталляции «Шкаф Ильи» тонко тематизировал эту стратегию.) Уже в ранних своих альбомах Кабаков предложил установку снятия понятий абсолютной неангажированности, артистической свободы и пр. Он вполне признает наличие реальности, в том числе и советской. Художники модернистского типа и жеста, согласно либеральной традиции, советское государство сравнивали с Левиафаном. Соответственно, с ним надо было бороться. Стратегия концептуального толка была иной. Их свобода была не в борьбе, а в выборе позиции по отношению к материалу советского. Эта позиция может быть концептуально аналитической, может быть и игровой. Может быть дистанцированной и приближенной, вплоть до мимикрии (апроприация Кабаковым, Булатовым и других низовых жанров советской визуальной продукции – стендов, открыток, железнодорожных плакатов и пр.). Может различаться по типу позиционирования – внутри или вовне «советского тела». (В том числе коллективного тела советского искусства. На этом построена поэтика Э. Булатова и О. Васильева, концептуализирующих перцепцию, тончайше работающих с опознаванием видимостей: данных перцептивно и внедренных в сознание идеологически, в виде некоей, говоря телевизионным языком, картинки. Импульс позиционирования воспринял и Гриша Брускин: он видит себя как коллекционера и систематизатора советского, создателя иерархий и лексиконов.)
Монументальная экспозиция Ильи и Эмилии Кабаковых «Альтернативная история искусства» (2008) в московском «Гараже» являет собой тотальное воплощение нашей темы. Все линии, веером расходящиеся от «Руки и репродукции Рейсдаля», каким-то особым образом сводятся воедино. Три взаимоориентированные экспозиции наследия трех мистифицированных персонажей истории искусств (Ш. Розенталя, мнимого И. Кабакова и Спивака) являют, как мне представляется, тотальную тщету амбициозных репрезентаций картин мира. Амбициозных – потому что альтернативное выстроено так же, как главное, музейное: подробно, инсталляционно затратно, пафосно, откомментированно (вообще-то Кабаков давно стремится торпедировать музейный статус – хотя бы вульгарной протечкой: см. инсталляцию «Случай в музее»). Экспозиционеры (видимо, музейщики, им И. и Э. Кабаковы как бы уступают честь музеефикации наследия этих художников) мыслят целостно, широкоформатно, то есть пытаются дать именно репрезентацию, не фрагмент, кусок, а целостную картину мира (хотят ли этого художники – другой вопрос). В этом плане они, видимо, удовлетворены – все солидно. Художники – «по жизни», до выставки двое не дожили – не удовлетворены. Розенталь идет от цвето-пластических иерархий (влияние Малевича) к социальным (искус социально ориентированного искусства). И остается глубоко разочарованным. Не качеством (хотя Кабаковы все время лукаво подсказывают: качество-то не того…). Самой возможностью высветить главное. Отсюда – идиотическидадаистская буквализация этой мании иерархии и контроля: лампочки в «главных местах». Кто их зажигает? Художник? Зритель? Некий всеобъемлющий и всехобъемлющий Контролер? У мнимого Кабакова свои проблемы – он, признавший Розенталя своим учителем, разрывается между натурными и абстрактными способами репрезентации мира, к тому же удручен своим несовершенством. У Спивака свои: социализация, интеграция, да и жизнь оказалась коротка. Три биографии, три типа мироощущения и миропонимания? Нет, «Альтернативная история» не об этом, хотя нарративно-мистификационная сторона хороша: разработана с почти детективной интригой. История, повторю, о тщете амбициозной репрезентации. Ведь и основной предмет «разговора» – сугубо оптический: «засвеченные» куски живописной поверхности, загнутые уголки, непонятные «белые человечки», какие-то геометрические фигуры – то ли «следы» супрематизма, то ли «мухи» (решетки, полоски) на сетчатке глаза.
(В свое время В. Захаров в инсталляции «История русского искусства от русского авангарда до московской школы концептуализма», столкнувшись с «трудностями музейной репрезентации», похоже, решил не будить лихо. Он облегчил себе задачу, буквально использовав постмодернистскую стратегию архивации: складировал историю искусства в большие папки и поместил в какой-то агитвагон, в который можно войти, но папки в руки тебе не выдадут. Кабаков себя не пожалел.)
Разумеется, далеко не всегда к музейной репрезентации художники обращаются с вопросами глобального, мировоззренческого порядка. Чаще художники в этом обращении ищут ответы на конкретные вопросы искусствопонимания. Так, художественное сознание нескольких уже поколений современных думающих художников развивалось под знаком запрета на нарратив: рассказывание историй намертво закрепилось за ретроградным и реакционным искусством. Однако наиболее пытливые начинают тяготиться запретами. Любопытно смотреть, как они осторожно, как бы пробуя температуру воды ногой, пытаются «войти» в течение нарратива. Так, А. Белкин выбирает хрестоматийную русскую повествовательную картину – «Христос и грешница» В. Поленова. Она высоко повествовательна сама по себе. Но в ней есть внутренний сюжет, вырывающийся наружу вне общего течения нарратива и даже вопреки ему. Все экскурсоводы Русского музея знают оптико-техническую особенность этой вещи: Поленов написал ослика так, что он как бы следит глазами за зрителем, передвигающимся параллельно картине. Белкин «выдергивает» изображение погонщика на ослике из картины, по-постмодернистски удваивает его, переносит из насыщенной действием среды в разреженную ноосферу, в которой проплывают какие-то сомнительной научности формулы и знаки… Причем радикальности приема здесь не чувствуется: похоже, ослик и погонщик прижились и в этой среде. Белкин, мне представляется, исследует нарратив не с целью дезактивировать его, обезвредить. Нет здесь и желания апроприировать его, присвоить. Он, кажется, хочет показать: ничего страшного, жить можно, даже мощный хрестоматийный нарратив не помешает рассказать что-то свое, было бы что… К. Рагимов подбирается к потенциалу нарративности с другой стороны. Но тоже – «через» музей. В пространство и, главное, в «настроение» хрестоматийного узнаваемого пейзажа Куинджи внедрено нечто чужеродное: брошенный битый автомобиль. Он притулился здесь достаточно органично. Конечно, он здесь не ради примитивного прикола по принципу «не может быть». И не в качестве «бомбы», подрывающей доверие к отпечатавшемуся в массовом сознании образу… Скорее художник исследует возможность радикализации теста другим текстом: в неторопливую «родную речь» внедряется – пусть в потенциальном, свернутом виде – action по типу кроненберговых психоделических фильмов…
Г. Острецов приходит в музей в резиновой рельефной маске (само по себе то, что в резине отливаются рельефы на классицизирующие темы, выглядит диссонансно). Автор сам себе артефакт, сам себе музей. Его появление и поведение в музейной среде неадекватно. И в то же время само присутствие этого сомнамбулически самопогруженного «чужака» вдруг становится необходимым: оказывается, рутина традиционных внутримузейных отношений и ролей (картина – зритель) нуждается в некоей встряске. Возвращаясь к периоду создания кабаковской «Руки…», признаем: сама потенциальная многоходовость, заложенная в этой вещи, во многом явилась следствием тех новых горизонтов, которые приоткрыло для наших художников соприкосновение с поп-артом. Поэтика амбивалентностей, которая присутствует в ней, не могла бы осуществиться вне тех процедур аксиологического характера, которые произвел поп-арт (теория «дезориентации» Д. Розенквиста, данное Р. Лихтенштайном определение поп-арта как «искусства цитирования, перевода, имитации, двусмысленностей» и др.).
В нашем искусстве немало произведений, инициированных непосредственно поп-артом (притом что И. Кабаков, видимо, первым плодотворно отрефлексировал это движение). Необходимо вспомнить и раннего М. Чернышева, и раннего М. Рогинского. Одной из интересных реакций я бы признал реди-мейд Е. Рухина «Трубка». Он очевидно отсылает к знаменитому произведению Р. Магритта «Это – не трубка», глубочайшим образом откомментированному М. Фуко[11 - См.: Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999.] и предвосхитившему теорию речевых актов Д. Остина. Однако диалектику визуальное – вербальное Рухин резко радикализирует и брутализирует, переводя визуальное в грубую, вещную трехмерность реди-мейда. Есть в этой брутальности и специальный месседж, своего рода «наш ответ Чемберлену»: перфекционизму и анонимности машинного изготовления, супермаркетной репрезентации наше искусство противопоставляло как раз рукодельность, неказистость, топорность. Так, О. Зайка дает свой ответ «супу Кэмпбелл» Энди Уорхола: вместо аккуратности и имперсональности реализации – размашистая грязноватая живописность («Сливовый компот»). А. Тер-Оганьян печатает некие хиты мирового искусства – от Пикассо до Гилберта & Джорджа – на пластмассовых формах, своего рода гипертрофированных значках. И сам прием, и форма давно апроприированы поп-артом. Но здесь «значки» – рукодельного, самопального, дотехнологичного производства, их «меньшие братья» были в ходу в России в 1960-е годы и прямо наследовали кустарной продукции, которую продавали инвалиды в электричках. Во всем этом видятся не манипуляции понятиями высокое – низкое и даже не вызов все той же агрессивноперфекционистской эстетике поп-арта (одной его линии. Не будем забывать, что был еще и как бы антимашинный, антииндустриальный hand made pop-art К. Олденбурга и Р. Раушенберга). Смысл этой вещи глубже: отсылки к современному искусству, и тематические, и формальные, не исключают, а наоборот – вызывают к жизни суггестию некоего национального опыта, не эстетического даже, а того, что называют теперь историей повседневности… Этот импульс видится мне и в «Семейном портрете» О. Тобрелутс: поп-артовская медийность находится в сложных (по типу перетягивания каната) отношениях с прямолинейной документальностью безыскусных домашних фотографий. За первой – «настройка» глаза современного художника, за второй – историческая память и опыт повседневности…
Дубоссарский и Виноградов – пожалуй, самые медийно раскрученные художники своего поколения. Это происходит не из-за каких-то внешне конъюнктурных соображений, а ввиду отрефлексированной способности художников само понятие визуально-информационной конвертируемости сделать фактом формообразования. Оказывается, все эти почти самовоспроизводящиеся циклы («Искусство на заказ» и др.) – не про то, что они изображают. Не про вакханалии на колхозных полях и даже не про историю русской живописи. Они – про визуальный язык. Вообще, экфрасис их картин мало что даст. А вот анализ их языка поучителен. Дубоссарский и Виноградов используют язык советского худфонда – донельзя упрощенный и вместе с тем более гибкий и демократичный, чем канонизированная манера классиков соцреализма. Этим языком писалось все – от безобидных пейзажиков до портретов членов Политбюро. И. Кабаков и художники его круга в свое время использовали имперсональность этого языка. Дубоссарский и Виноградов, много позже, – его демократичность и универсальность (кстати, именно универсальность языка заставляет нас видеть и в простейшей картине авторов, каком-нибудь захудалом пейзаже «с березками», часть универсума: здесь нет сюжетных или иконографических наворотов, зато эксплицирован язык, и это мгновенно приобщает подобную работу к целому). Конечно, они чуть усложнили оптику, добавив «немного Уорхола». Конечно, они концептуализировали худфондовскую смачную маэстрию, придав ей модные трэшевые интонации. Но это усиление только подчеркивает ту внутреннюю «жизненную» содержательность, которая не укладывается в технологию конвертируемости.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:



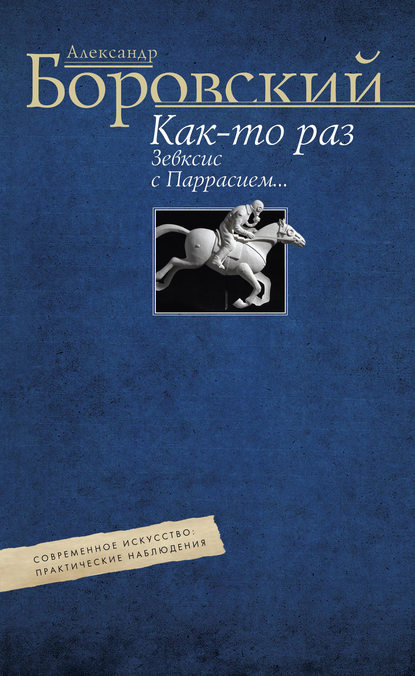




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0