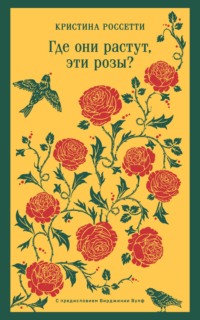
Где они растут, эти розы?

Кристина Джорджина Россетти
Где они растут, эти розы?
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Лукашкина М. М., перевод, 2024
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2024
Вирджиния Вулф
Я – Кристина Россетти
Пятого декабря 1930 года Кристина Россетти отпразднует свой столетний юбилей, или, правильнее сказать, праздновать её юбилей будем мы – читатели. Чествование со всеми подобающими речами вызвало бы у Кристины чувство острой неловкости, потому как женщиной она была робкой. Тем не менее юбилея не избежать; время неумолимо; говорить о Кристине Россетти мы должны. Перелистаем страницы её жизни; почитаем её письма; вглядимся в её портреты; посудачим о её болезнях, кои отличались разнообразием; наконец, погремим ящиками её письменного стола – большей частью пустыми. Не начать ли с её биографии – что может быть занятнее, чем биография писателя? Многие испытали на себе очарование таковых. Откроем книгу «Жизнь Кристины Россетти», написанную компетентной мисс Сандерс, – и с головой погрузимся в прошлое. Будто в распахнутом чёрном ящике иллюзиониста, мы увидим кукол – уменьшенную во много раз копию людей, живших сто лет тому назад. Всё, что от нас потребуется, – это смотреть и слушать, слушать и смотреть, и куклы, возможно, начнут двигаться и говорить. И тогда мы примемся расставлять их и так и этак, между тем как, будучи живыми людьми, они не сомневались, что могут идти куда им заблагорассудится; мы будем видеть в каждом их слове особенный смысл, о каком они и не подозревали, говоря первое, что приходит им в голову. Что поделаешь, читая биографию, мы всё видим несколько в ином свете.
Итак, мы в Портленд-Плейс, на Хэллам-стрит, в 1830-е годы; а вот и семейство Россетти – отец, мать и четверо ребятишек. Хэллам-стрит того времени нельзя назвать фешенебельной, и на доме лежит отпечаток бедности, однако это ровным счётом ничего не значит для Россетти, ведь их, итальянцев, нимало не заботят условности и правила, которыми руководствуется так называемый средний класс Англии. Россетти живут обособленно, одеваются как считают нужным, принимают у себя бывших соотечественников, среди которых и шарманщики, и нищие, сводят концы с концами уроками и сочинительством, а также другим случайным заработком. Мы видим и Кристину – чем старше она становится, тем дальше отстоит от семейного круга. И дело не в том, что ребёнок она тихий, склонный к созерцанию, будущий писатель со своим особенным миром, умещающимся в его голове, – гораздо большую роль тут играет чувство преклонения, которое она испытывает перед старшими, столь знающими и образованными. Но вот приходит время наделить Кристину подругами и сказать, что она не любит наряжаться и питает отвращение к балам. Ей безразлично, как она одета. Ей симпатичны друзья, бывающие у её братьев, а также сборища, на которых молодые художники и поэты обсуждают будущее устройство мира. Порой их разговоры забавляют её, ведь степенность причудливо сочетается в ней с эксцентричностью, и она не упустит случая посмеяться над тем, кто самовлюблённо считает себя важной персоной. И хотя она пишет стихи, в ней нет и следа той тщеславной озабоченности, которая присуща начинающим поэтам; стихи складываются в её голове сами собой, и её не беспокоит, что скажут о них другие, ведь в том, что эти стихи хороши, она уверена и так. Её восхищают родные: мать, такая спокойная и простая, искренняя и проницательная; старшая сестра Мария, не имеющая склонности ни к рисованию, ни к сочинительству, но, может быть, оттого столь энергичная и хваткая в житейских делах. Даже отказ Марии посетить Египетский зал в Британском музее, вызванный опасением, как бы её посещение ненароком не совпало с днём Воскресения, когда посетителям Египетского зала неприлично будет глазеть на мумии, обретающие бессмертие, – даже эта рефлексия сестры, пусть и не разделяемая Кристиной, кажется ей замечательной. Конечно, нам, находящимся вне чёрного ящика, слышать такое смешно, однако Кристина, оставаясь в нём и дыша его воздухом, расценивает поведение сестры как достойное высочайшего уважения. Если бы мы могли, мы бы увидели, как в самом существе Кристины зреет что-то тёмное и твёрдое, как ядро ореха.
Это ядро, несомненно, вера в Бога. Мысли о божественной душе овладели Кристиной, когда она была ещё ребёнком. Тот факт, что все шестьдесят четыре года своей жизни она провела на Хэллам-стрит, в Эйнсли-парк или на Торрингтон-сквер, не более чем видимость. Настоящая её жизнь протекала в другом, весьма причудливом месте, где душа стремится к невидимому Богу – для Кристины это был Бог тёмный, Бог жестокий, Бог, объявивший, что ему ненавистны земные удовольствия. Ненавистен театр, ненавистна опера, ненавистна нагота; оттого художница мисс Томсон, подруга Кристины, вынуждена была сказать, что обнажённые фигуры на её картинах нарисованы «из головы», а не с натуры. Кристина простила обман, пропустив его, как и всё, что происходило в её жизни, через клубок душевных мук и веры в Бога, гнездившийся у неё в груди.
Религия вмешивалась в жизнь Кристины до мелочей. Религия подсказывала ей, что играть в шахматы нехорошо, а вот в вист или криббедж – можно. Религия вмешивалась и в те важные вопросы, которые должно было решать её сердце. Художник Джеймс Коллинсон[1], любивший её и любимый ею, был романо-католиком. Она согласилась стать его женой, лишь когда он примкнул к англиканской церкви. Терзаясь сомнениями, будучи человеком ненадёжным, он накануне свадьбы всё же вернулся в римско-католическую веру – и Кристина разорвала помолвку, пусть это разбило её сердце и бросило тень на всю её последующую жизнь.
Годы спустя новая – лучше первой – перспектива семейного счастья замаячила перед Кристиной. Ей сделал предложение Чарльз Кэли, – но увы! – этот эрудированный господин в застёгнутом не на те пуговицы платье, который перевёл для ирокезов Евангелие и справлялся у дам на званых вечерах, знают ли, что такое Гольфстрим, а в качестве подарка преподнёс Кристине заспиртованную морскую мышь в баночке, – этот господин, разумеется, был вольнодумцем. Ему, как и Джеймсу, Кристина отказала. И пусть, по её признанию, «не было женщины, которая любила бы мужчину сильнее», стать женой скептика она не могла. Ей, обожавшей «курносых и мохнатых» – вомбатов, жаб и всех мышей на Земле, – называвшей Чарльза «мой канюк бескрылый» или «мой любимый крот», невозможно было разрешить кротам, канюкам, мышам или чарльзам кэли подняться на свои небеса.
В тот чёрный ящик можно глядеть долго. Нет конца странностям, причудам и курьёзам, заключённым в нём. Но стоит задуматься, какой тайный уголок этого ящика мы ещё не исследовали, нам даст отпор сама Кристина Россетти. Представьте себе, что рыбка, природной грацией которой мы любуемся – заплывает ли она в заросли тростника или нарезает ли круги вокруг камня, – вдруг бросается на стекло аквариума и разбивает его. Подобное случилось во время чаепития у миссис Тэббс – в числе гостей там оказалась Кристина Россетти. Что послужило поводом, мы в точности не знаем. Возможно, кто-то в легковесно-небрежном тоне, который пристал подобным чаепитиям, отозвался о поэзии или поэтах. Как бы там ни было, ко всеобщему удивлению, маленькая женщина в чёрном платье поднялась с кресла, вышла на середину комнаты и, торжественно объявив всем: «Я – Кристина Россетти!», – возвратилась на своё место.
Слова сказаны – стекло на наших глазах разбилось. «Да, – означают эти слова, – я поэт. А вы, делающие вид, будто отмечаете мой юбилей, нисколько не лучше тех, кто пил чай у миссис Тэббс. Вы интересуетесь ничего не значащими подробностями моей жизни, гремите ящиками моего письменного стола, смеётесь над Марией, над мумиями и над моими сердечными делами, а между тем всё, что я хотела бы вам о себе рассказать, находится здесь, в этом зелёном томике. Это избранные мои стихи. Купите их за четыре шиллинга и шесть пенсов. Прочитайте». – И она снова усаживается в кресло.
Какие непримиримые идеалисты эти поэты! Поэзия, они утверждают, не имеет ничего общего с жизнью. Мумии и вомбаты, Хэллам-стрит и омнибусы, Джеймс Коллинсон и Чарльз Кэли, заспиртованная морская мышь в баночке, мисс Тэббс, Торрингтон-сквер и Эйнсли-парк – всё это, включая религиозные догмы, весьма относительно, не имеет ценности, мимолётно, эфемерно. Существует только Поэзия, вопрос лишь в том, хороша она или плоха. И ответить на него возможно не сразу, а лишь по прошествии времени. Не так уж много путного сказано о Поэзии с тех самых пор, как она существует. Современники, как правило, ошибаются в своих оценках. Почти все стихотворения, включённые в собрание сочинений Кристины Россетти, были когда-то отвергнуты редакторами. Годовой доход, который она имела от стихов, на протяжении многих лет не превышал десяти фунтов, тогда как книги Джин Инджелоу, о которых она отзывалась саркастически, выдержали восемь прижизненных переизданий. Были, разумеется, в окружении Кристины Россетти поэты и критики, к суждениям которых можно было и прислушаться, но даже они подходили к стихам Кристины с весьма различной меркой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Джеймс Коллинсон – английский живописец Викторианской эпохи, член Братства прерафаэлитов с 1848 по 1880 г.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов