– Епископ Самуил. Рукополагал меня, недостойного. Редкий был владыко.
В воображении старика зароились воспоминания, и все разом: грубые пинки сильного протодьякона в шею и по плечам, когда нужно было кланяться архиерею, и в бока, когда нужно было идти в ту или другую сторону; и поддьяконы, которые потребовали угощения после посвящения… Поют «аксиос»… Припомнился и сам Самуил. Приехал он неожиданным (любил ездить по захолустьям, по бедным приходам, без всякой свиты, с одним протодьяконом). Опрометью бежал новоставленный священник на звон с поля в рубахе; подрясник схватил с гвоздя дома, а рясу-то, что получил от тестя в приданое, полинялую и оборванную по подолу, но парадную, потому что была суконная ряса-то…
– Господи, куда угодить придется?!
Поберегая как единственную и последнюю, он вешал рясу в алтаре. А архиерей-от прошел прямо в церковь: не пробежишь мимо.
Так в подряснике одном и предстал и в землю повалился.
– Не громи, не сокрушай, владыко святый, яви милость, прости столь великую мою вину и злое деяние мое ради малых детей и великой моей бедности!
– Встань, – говорит, – радуюся, видя тебя на добром деле, снискивающим хлеб свой… угости-ка!
Нашлась водочка. Выпил владыко две рюмочки и мне велел. Покушал, что нашлось молочного да хлебного: яичницу ему из 40 яиц сам сделал. Певчую орду ублаготворил из сельского кабака целым ведром водки. Велели они напечь им в дорогу яиц – напек; да полопали всю сметану, да поели почти все запасы, которые заготовлены были на целый год, – и за щеку клали, и с собой набрали. Уехали наконец, слава Богу!
А вот и Евгений с большой бородой – резолюции на прошениях стихами писал; к семинаристам на рекреациях приезжал с пряниками. В лапту с ними играл и ставил такие свечи (так высоко прямо бросал мяч палкой), что никто не мог его лучше шибнуть. Не прочь был и от городков: подберет полы, снимет рясу и, как теперь вижу, колотит палками по городкам.
Вот Виталий с толстым лицом: служить не любил, певческий хор запустил, никуда не выезжал, мало кого принимал, по епархии не ездил, умер от водяной.
Владимир – певчих любил и служить любил, в дьяконах поощрял хорошую выходку. Сам из себя был такой сановитый, красивый, волоса каштановые, рясы голубые бархатные. Служил долго и торжественно; протодьякон у него что хотел, то и делал: большой был человек при архиерее и алчный. Нашему брату тяжело при их объездах было, ездили все по бойким и богатым местам. Проповеди любил Владимир сказывать и исторгал ими слезы, а когда напечатал их – в чтении были слабы: произносить умел. Едет когда из монастыря в город, по всем церквам звон идет – любил торжество и благолепие. Отъезжал в другую епархию – многие плакали по нему, а духовенство отшествию его радовалось.
Павел: ничего про него припомнить нельзя; отъехал в Сибирь, а на другой день въехал новый владыко, вот этот – очень похож на портрет.
Вот и он вживе сам – отворил дверь и остановился в дверях, на пороге.
Как увидел священник его, «правящего право слово истины», так тут же, где стоял, пал в землю. Сделав еще шаг, опять поклонился в ноги, и в третий раз также скоро, не поднимаясь и не поправляясь. Волоса все упали на лицо.
Слышится грозный голос:
– Поди сюда!
Дал владыко благословение. Поцеловал старец руку. Рука – архиерейская, настоящая: мягкая, пухлая, розовой водой пахнет. Стали перебирать эти руки янтарные четки, которые тихо и приятно шелестели. Стал он, выслушав просьбу, говорить:
– Твоя вина. Твое опущение. Небрег о храме. Не умел внедрить в сердца прихожан чувства благотворительности. Плохой пастырь. Не могу одобрить.
Горечь приступила к сердцу священника. Хотел говорить – язык не послушался.
Строгий, резкий голос опять послышался ему, а четки в руках владыки все играли.
Панагию на груди архиерей поправил и опять говорил:
– По приходам яйца собирать. Печеный хлеб телегами вывозить. У купцов сахар выкланивать попадьям на варенье – все на себя. А о доме Господнем нет рачения: и ста запустение на месте святе. Кем это сказано?
Перебрал ответчик в старческой памяти подходящий ответ на вопрос, не нашел, повалился опять в ноги: пощадите немощную старость, изношенную память.
Понравилось.
– Встань! Говорил ли поучения? Возлюби Господь благолепие дому своего.
– Творил все по силе моей! – удалось-таки выговорить священнику.
– По епархии в объезд поеду – поверю. А теперь полагаюсь на твою священническую совесть.
Обратился владыка к прошаку и его подозвал:
– Намерение твое похваляю: благую часть избрал. Помоги немотствующим, нерадивым и небрегущим.
При последних словах даже кивнул головой в сторону священника.
Сказал маленькое поучение и благословил вновь обоих, промолвив в заключение:
– Теперь ступайте с миром!
Чрез несколько дней священник наведался к секретарю: разрешение вышло. Да еще что-то понадобилось: повременить-де еще надо. Но старик был зверь травленый: он привез с собою мешочек крупы, сотню яиц, горшок топленого коровьего масла, бурак со своим медом. По дороге он заходил в городской винный погреб, где купил бутылку рому ямайского.
Те из продуктов, которые были послаще и подороже, пошли на потребу и усладу секретаря консистории. Яйца и несколько медных пятаков ушли на ту голодную братию, которая, небритая и неумытая и хорошо непроспавшаяся, стоит голодной ордой в передней консисторской комнате и в той, где скрипят перья и нехорошо пахнет и за которой находилась комната секретаря и присутствие.
Секретарь велел приходить, назначил время, приказал приводить и прошака с собой. Оба отправились в консисторию, пристроенную в монастырской стене, но разбитыми загрязненными окнами смотревшую наружу, на большую дорогу, на которой начинался дальний путь нашего странника. По обтертой и исшлепанной кирпичной лестнице поднялись они наверх, в консисторию: священник в сотый раз на своем горемычном веку после получения когда-то своей ставленой грамоты, мужичок в первый раз в жизни.
Свежего деревенского человека на первых порах поразило в передней непонятное дело. Несколько немытых и небритых ребят суетились около чего-то, которое то показывало между ними свою голову и плечи, то скрывалось из глаз. Суетня кончилась восторгом ребят и появлением в руке одного из них синего платка и в нем пирога, из которого сыпалась гречневая каша. Ребята быстро, с волчьей жадностью, разорвали на части пирог; синий платок исчез в кармане одного из них. Нечто оказалось священником либо дьяконом, быстро бросившимся из передней на лестницу и на улицу без палки и шапки: консисторские поспешили отобрать все, что могли. Недаром про присутствия эти такая слава.
Невольно передернулись плечи зрителя при виде всего этого, и заботливо сложились черты на лице, как бы в чаянии подвергнуться тому же испытанию и при готовности перенести его, если только за одним этим стоит дело. Ребята, однако, по-видимому, удовлетворились. Разорвавши и сглотавши пирог, разбрелись они в разные стороны.
Секретарь новоприбывшего священника велел позвать к себе прямо. Вызвал он и его товарища, дал ему наставление с указанием на то, что вручаемая книга – большая святыня; посоветовал завернуть ее в чистый лоскут и спрятать за пазуху; свел его в присутствие, выпросил ему благословение у присутствовавших членов и отпустил вместе с батюшкой. В прихожей ринулся и на них один молодец прямо грудью, но предварительно спросил о том, зачем приходили и о чем просили. Получив ответ и увидев сборную книгу, махнул рукой и отмахнул ею же другого товарища, выглянувшего из-за дверей отекшим лицом с тупым, но сластолюбивым взглядом.
Батюшка сказывал потом, что секретарю он сверх деревенских запасов дал немножко денег, объяснив при этом, что без подмазки-де и колесо скрипит и плохо вертится, пожалуй, того и гляди загорится. На постоялом дворе, где они ничего не потребили, а извозчики сытно и много ели, товарищи распрощались. Священник не только крепко благословил своего спутника, но крепко и горячо поцеловал его и даже прослезился.
Книжка выдана была на год и на разные губернии, даже на обе столицы: недаром батюшка похвастался своим приношением и говорил о несмазанных колесах.
Неловко было на первых порах в новой роли: как в ней и ноги переставлять и куда идти? Словно бы хомут какой на шею надели. Но эти впечатления только на первых порах – по пословице: «Первую песенку, зардевшись, спеть». Он и спел ее, лишь только очутился на первом базаре, спел, подражая тем прошакам-сборщикам, которых где-то прежде видел и когда-то слышал. «Порадейте, православные», – спелось в первый раз так ладно, что самому стало любо; и пригнуска откуда взялась, и вышло совсем наподобие того, как коростель-птица во ржи кричит. А главное: выкрик останавливал кое-кого из прохожих и не звучал на базаре напрасно: давали деньги, давали яйца, чайку дали. Так говорил и советовал батюшка: съестное дадут тебе на потребу твою; памятуй то, что два вас ходят: один живой человек, которому есть хочется, другой, и все ты же, это – который на церковь Божию сбирает. Так и люди разумеют; иной, пожалуй, и сам про то скажет.
Встречи с людьми подобного же занятия, встречи, неизбежные при первом выходе в бойкие торговые места и в людные селения, несомненно, отметят дорогу, выучат распознавать колеи и рытвины и отыскивать прямые и нахоженные тропы. Зависти, тайных недоброжелательств, подвохов и подкопов между подобного рода конкурентами не бывает; монахини ходят даже по трое, по четверо вместе. Бывает лишь то, что монахи смотрят на простых сборщиков свысока и стараются не смешиваться с ними в толпе; а во всем прочем у всех одна участь, одни испытания и широкая торная дорога во все стороны. Иди вперед, иди, сколько понесут ноги; там впереди – добро. Но его пока еще не видно.
Глава IV
Темные свинцовые тучи нависли на небе, и сыпался из них тот неустанный настойчивый дождь, который бывает только осенью, когда дорожный человек, обиженный им до последней нитки и раздраженный до отчаяния, не рассчитывает уже на то, что вот тучи перемежатся, и если не солнышко, то ветер посушит намокшее платье, а думает о том, как бы добраться до первого жилья и не у солнышка, а у родной матери – горячей печки просить помощи и защиты. И всегда в таких случаях, на пущую беду, вздумается это гораздо раньше, чем предстоит к тому возможность, и затем минуты удлиняются в часы, и одна верста кажется несравненно больше целого десятка их.
Каково чувствуется и думается нашему путнику, идущему пешком в то время, когда и обогнавшая его тройка с почтой едва выдирала ноги из расплывшейся грязи, встряхивая по временам колокольчиком? Налипшая глинистая грязь на лаптишки набрала в попутном лесу осыпавшейся листвы и еще крепче обессилила ноги, когда пришлось им выбираться с полевой тропы на худой чрез овраг мост, также залитый грязью и пригодный лишь к тому, чтобы околотить и очистить о перила его отяжелевшие ноги. Да и с очищенными ногами не лучше – на свежей глине, которая лоснится по тропе, как зеркало, ноги скользят и разъезжаются врозь, а в спине и плечах жгучая боль усиливает прежнюю, уже раньше нахоженную истому. Вот и деревушка виднеется, низенькая и черная, словно приниженная к земле тяжестью вылившегося воздушного моря – рукой бы до деревни подать, а дойди-ка! Вот налилась такая лужа, что обходить надо. На обходе бешеный ручеек вырвался из нее и покатил во всю шаловливую мочь, кажется, без конца; перепрыгнуть его не берет сила: ноги давно как свинцом налиты, а на той стороне залысилась колдобинка – поймаешь на ней леща и ребер не сосчитаешь.
– Ох, донеси, Господи! Только бы как на задворье попасть – вон и бани, знать.
Собаки не лают, и бродячей коровы не видать: все в затуле. Один странный человек в беззащитной обиде от осенней распутицы и ненастья. По деревне грязь еще вдвое гуще и невылазнее.
– Пустите Христа ради погреться.
Назяблый голос дрожит из простуженного горла и сиплым звуком врывается в первую избу на околице.
– Войди, добрый человек, тепла нам про тебя не жаль. Обсушись, обогрейся.



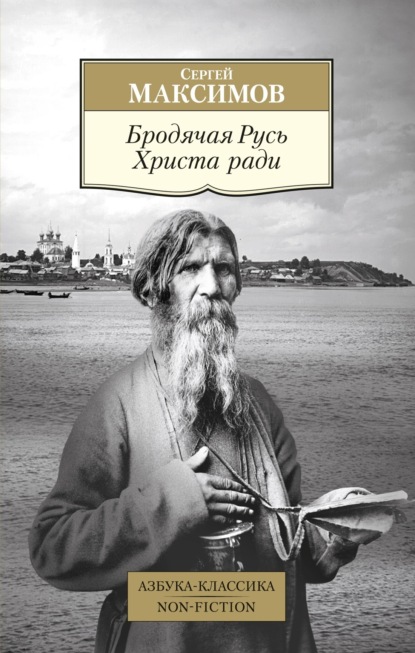




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0