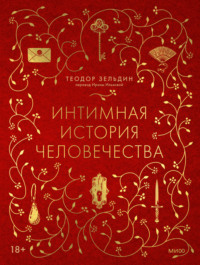
Интимная история человечества
Лидия выглядит очень современно в брюках и с револьвером на бедре, но она решила, что ей будет удобнее на Реюньоне, в Индийском океане, куда ее отправят в следующую командировку. Она уже почувствовала вкус Новой Каледонии: там, говорит она, «живут так, как жили сто лет назад». Однако и в Коньяке сохранились старые обычаи: чтобы поговорить со мной, ей нужно было получить разрешение своего начальника, капитана, тот спросил полковника, а тот обратился к генералу…
Другие старомодные обычаи можно наблюдать в окрестностях города. Местные виноградари тоже осторожны в выражениях. Семья Белленгес, владеющая 16,5 гектара виноградников и 30 гектарами пахотной земли, по-прежнему верна традиции не перечить властям: «Мы никогда не обсуждаем политику. Мы со всеми в хороших отношениях. Мы голосуем, но не рассказываем – за кого».
Однако у каждого члена семьи отношение к словам свое. Бабушка – интеллектуалка. Шестидесятипятилетняя портниха по профессии, она начитанна, интересуется новыми гаджетами, помогает детям делать уроки и ведет записи, когда смотрит телевизор, а потом любит обсуждать передачи. Ее блестящий ум объясняют тем, что она родом с севера, из Па-де-Кале. Считается, что одна из ее внучек пошла в нее, потому что дома все время читает.
Глава семьи, унаследовавший ферму от отца, продолжает есть на завтрак суп, паштеты и сосиски, как всегда ели его предки. Он знает всех в округе, ходит на охоту, читает газету и подписан на консервативный еженедельник L’Express. Но есть темы для разговора, которые по-прежнему слишком щекотливы. У него нет сыновей, жалеет ли он об этом? Его жена отвечает: «Он никогда про это не говорил».
Жена рассказывает охотно и много, но разговоры лишь аккомпанемент к работе. Ей некомфортно, если она постоянно не занята и не находится в движении, не присматривает за животными и домом и по два часа не стоит у плиты, готовя ужин. Она никогда не читает, даже газету, и никогда не помогала детям с уроками: «Мы им доверяли, мы не такие, как другие родители, которые вмешиваются. Дети должны идти своим путем, нет смысла заставлять их получать более высокие оценки – каждому по способностям. Я воспитала их бережливыми и приспособленными к жизни».
Одна из дочерей, которая учится на медсестру и планирует стать акушеркой, говорит, что в старину больше общались, по крайней мере во время уборки урожая, когда нанимали пятнадцать рабочих разных национальностей: атмосфера была праздничная, а субботними вечерами устраивали обильные трапезы и танцы. Ей нравится «атмосфера тепла», это означает, что вокруг нее много людей. В прошлое воскресенье у семьи не было гостей: «Как странно, что мы одни, дом кажется пустым». Но опять же, есть вещи, о которых они не говорят: «О том, о чем мы не говорим друг с другом, мы пишем в письмах». Они переписываются с жителями Африки, Перу, Кореи. Медсестра отправляет по три-четыре письма в неделю. Чужие люди нужны, чтобы объяснить, чем ты занимаешься и что чувствуешь.
В самом центре Коньяка собеседники тоже в дефиците. У Аннет Мартино и ее мужа есть овощная лавка, где столько покупателей, что они могут позволить себе отпуск только на одну неделю в году: она придумала изюминку – изящные, богато украшенные корзины с фруктами, за которыми люди приезжают за 80 километров. «Я хотела бы, – говорит она, – быть как Труагро [шеф-повар с тремя звездами], чтобы меня признали в профессиональной среде. Я не подозревала, что это есть во мне. Но трагедия коммерции в том, что люди думают, будто мы кассовые аппараты. Да, конечно, мы живем на их деньги, но мы не только это. Когда встречаешь людей и слышишь, как они разговаривают, становится интересно. Я бросила школу в четырнадцать, у меня проблемы с орфографией, в переписке я пользуюсь словарем. Но сейчас меня интересует все. Я испытываю ненасытную жажду знаний. Я не читающий человек, но люблю иногда зайти в книжный магазин и полистать какую-нибудь книгу или журнал. Я готова попробовать, прежде чем сказать “нет”. Культура очень развилась во Франции: теперь можно делать все, говорить обо всем; все стало культурным, потому что везде и всему можно учиться. Телевидение дает много новых идей и интересных биографий, и их хочется обсуждать». У Аннет нет комплекса неполноценности из-за отсутствия образования: «Есть люди образованные, но глупые».
В детстве ее учили не разговаривать за столом. «Мои родители почти не разговаривали друг с другом. Подруги говорят, что их мужья тоже не разговаривают. Это встречается часто. Раньше мужья мало говорили, потому что все было под запретом и потому что им нечего было сказать. На наших званых ужинах мы либо молчим, либо спорим.
Мой муж встает в три часа ночи, чтобы сделать покупки. Он немногословен и полностью погружен в работу. Я предупредила дочь: “Ты будешь больше радоваться жизни, если будешь с мужчиной, с которым можно поговорить”. Недавно я купила книгу, в которой написано, что женщин больше интересуют разговоры, чем секс. Дружба начинается с болтовни ни о чем, просто для развлечения, но позже человек начинает говорить о жизни, начинает делиться чем-то. Настоящие друзья появляются очень редко. Они не будут повторять то, что говорю я, и не будут это обесценивать. Мне нравятся многие люди, но дружба – более сильное слово.
Я научила своих дочерей бороться за себя, быть независимыми. Со старшей я уже разговаривала о женских делах. Я говорю свободно, но мы не подружки. Я чувствую себя ее матерью. Я говорю им, что нужно работать, любить, уважать, учиться. Я хочу, чтобы они были настоящими женщинами, то есть теми, кого уважают и любят, кто умеет любить и может заставить себя уважать. Я говорю им, что нужно жить свободно, лучше меня, быть не такими невежественными.
Женщине нужен мужчина. В прошлом мужчины не оказывали женщинам поддержку. Отец не поддерживал маму, и раньше жизнь была более пассивной. У мамы были скромные запросы и много детей. Но мне нужны от мужчины поддержка, уверенность, ласка. Почему? Я не знаю. Нужно опереться на кого-то.
Примером настоящего мужчины был Ив Монтан. Я бы не хотела за него замуж, но у великих мужчин есть плечо – женщина чувствует его силу, он понимает ее и поддерживает. Однако, несмотря на сексуальную раскрепощенность, дружба между мужчинами и женщинами по-прежнему сложна, всегда есть arrière pensée (задняя мысль). Женщины могут говорить обо всем, что интересует мужчин, могут расширить круг тем. Они чаще делают паузу, размышляют, они не менее умны. Отношения меняются, но по-прежнему сложны. Когда мужчины становятся старше, они часто еще нуждаются в матери или хотят вернуться в восемнадцатилетний возраст, продолжать доказывать, что они мужчины. Тогда как женщина проживает каждый этап своей жизни, у нее есть несколько жизней. Мужчины отказываются так жить. Говорят, Монтан стал тем, кем стал, благодаря женщинам, и это правда.
У себя в магазине я продавец. С вами я – это я».
Шестнадцатилетняя дочь мадам Мартино считает, что ее способность вести беседы ограничивается по-другому. Раньше, говорит она, девушки доверялись только девушкам, а теперь с мальчиком можно подружиться без секса, «как с братом». «Разницы между мальчиками и девочками нет, можно поговорить и с теми, и с теми». Однако, если «девочки готовы экспериментировать и искать, у мальчиков есть навязчивые идеи, они думают только о деньгах и успехе». Появилась новая уверенность в девочках, чего не скажешь о мальчиках: она восхищается своей матерью, которая, хоть и любит свою работу, «сменила бы ее, если бы могла; ее интересует еще многое другое, и, если она чего-то не знает, она идет и узнает». Она мечтает уехать из Коньяка: «Это место только для тех, кому за тридцать пять», и дети бедняков должны держаться своего класса. Но ее уверенность смешивается с неуверенностью: «Я не люблю обслуживать покупателей в магазине, потому что есть риск не угодить им, вызвать недовольство». То, что происходит в головах других людей, становится все непонятнее.
Я спрашиваю сорокачетырехлетнюю женщину: «С кем вам наиболее комфортно беседовать?» Она отвечает: «С моим псом. Он меня понимает». Она принадлежит к поколению 1968 года, которое считало, что, как только табу будут сняты и люди станут откровенны друг с другом и свободно расскажут о том, что у них на душе, наступит новая эра. Лиза пыталась применять эту формулу более двадцати лет, и нельзя сказать, что у нее получилось. Она работает в клинике почечного диализа и гордится тем, что ее труд обеспечивает четверть доходов больницы. Однако коллеги разговаривают с ней не так, как ей хотелось бы, поэтому она решила уволиться. Когда она начинала, молодые врачи и медсестры общались на равных: они были командой, и врачи клялись, что, когда доберутся до вершины, никогда не будут вести себя как деспотичные старые специалисты, считающие себя богами. Теперь же молодые врачи стали уже немолодыми и влиятельными. Они сами ездят на международные симпозиумы и потеряли интерес к младшему медперсоналу. Лиза жалуется, что они считают нормальным, когда опытные медсестры вроде нее выполняют свои обязанности и зарабатывают чуть больше молодых, только что окончивших школу: она хочет признания своего опыта, не обязательно в деньгах, хотя бы в уважении. Его отсутствие все испортило. Но и врачи жалуются, что их не уважают пациенты, которые выше ценят телемастера. Никто не мог ожидать такого дефицита уважения в мире.
К Лизе приезжают пациенты со всей страны. Она проводит с каждым из них по четыре-пять часов три раза в неделю, и у них сложились тесные отношения. Тем не менее она решила взбунтоваться. Почти на одном дыхании она произносит: «С меня достаточно пациентов» и «Я буду очень по ним скучать». Она намерена стать администратором, специализирующимся на больничной гигиене. Мир не знает, как вознаграждать людей за их истинные заслуги, а не за место, которое они занимают в иерархии.
Как врачи отреагировали на ее требование уважения к себе? «Я никогда не говорила им об этом». Снова тишина. Гордость мешает. Она чувствует, что к ней относятся с пренебрежением. Но она не может просить о поддержке. Однажды она познакомилась с замечательным профессором фармакологии, в лаборатории которого провела некоторое время. Он был всемирно известен и работал в США, но в нем не было ни намека на высокомерие, он никогда не говорил о своих открытиях, всегда только о своей «команде», где ко всем обращались исключительно по именам. Вот идеальное отношение в ее понимании. Она забывает, что мировым авторитетам легко быть дружелюбными, тогда как посредственностям приходится демонстрировать свою важность, иначе о ней никто и не догадается. Однако Лиза ищет «новую мотивацию».
Она возлагала надежды прежде всего на свою карьеру. Она вышла замуж за врача, который тоже поглощен своей работой. «У нас равноправие. В доме нет мужских и женских обязанностей. Я абсолютно свободна. Я могу делать что хочу, и меня не будут критиковать, если я приду домой поздно. У нас раздельные банковские счета. Я слежу за собой. У каждого из нас есть свои увлечения. У него – теннис и бридж. У меня – сквош и фитнес. Но я готовлю по воскресеньям на всю неделю, потому что кулинария – моя страсть. Я проявляю в этом свое творческое начало: мне не нужна его помощь». Они были увлечены работой и не завели детей. Теперь она жалеет об этом. А он? «Не знаю. Мы никогда не говорим об этом. На самом деле он не хотел детей».
Однако это не единственная тема, которую они обходят стороной. Любит ли он ее? Она никогда не спрашивает, он никогда не говорит ей. А она говорит? «Мне легче сказать: “Ты действуешь мне на нервы”». Бывали времена, когда они почти не виделись, полностью поглощенные своими пациентами. Около пяти лет назад она решила, что они должны договориться ужинать вместе наедине каждую субботу в 20:30. Она готовит, как будто они ждут гостей, и они беседуют о медицине и людях, чью психологию он очень хорошо анализирует: «Он и меня научил». Он любит вкусно поесть, но говорит, что она тратит слишком много времени на стряпню. А когда к ним приходят гости, он говорит, что из-за суеты, которую устраивает Лиза, трапеза получается не такая праздничная, как она думает, потому что она ставит гостей в неудобное положение. Она действительно начинает готовиться к этим большим ужинам за месяц.
«Мы никогда не говорим о себе. Не знаю почему. Я думаю о себе, но не говорю, что думаю. Если бы я была действительно свободна, я бы говорила о себе с мужем; но, чтобы помочь мне избавиться от застенчивости, мне нужен такой муж, который сам не стесняется». Нет другого решения, кроме как выходить в свет и доказывать себе, что она достойна восхищения, но это никогда не приносит полного удовлетворения. «Я думаю, мой муж знает, что я исключительная, а вот он не исключительный; но он соглашается со мной, что я исключительная, только для того, чтобы избежать неприятностей». Она приняла приглашение преподавать в бизнес-школе утром раз в неделю и надевает свою самую элегантную одежду: «Я делаю все возможное, чтобы хорошо выглядеть перед этими подростками. Они замечают, что я ношу. Я создаю образ, который им нравится, чтобы меня слушали. Я не хочу стареть, не хочу вести себя как сорокачетырехлетняя женщина, люди моего возраста кажутся старше меня. Поскольку я спортсменка, я умею говорить с молодежью». Ее активность в спорте означает, что она знакомится со многими людьми: «Меня они не пугают, они относятся ко мне как к равной, что для меня важно».
Есть еще друг-мужчина, который любит делиться с ней своими проблемами, и иногда они ходят куда-то вместе, даже в ночные клубы, но муж не ревнует. Его отдушина – теннисный клуб и приятели-мужчины. «Почему мы не можем развлечься по отдельности?» – спрашивает он. «Почему не вместе?» – отвечает она. «Если он развлекается, я тоже хочу с ним развлекаться. Мне нравится развлекаться, но у нас разные представления о том, что это значит». Она уговорила его пойти на костюмированный бал, куда пришла совершенно неузнаваемой, а его нарядила клоуном, и ему действительно очень понравилось: «Это был один из наших лучших вечеров». При всей своей независимости она хочет близких дружеских отношений с мужем, но, похоже, время отдалило их друг от друга, как врачей и медсестер. Возможно, было бы иначе, если бы люди могли чаще удивлять друг друга.
Возможно, от одного человека нельзя получить достаточное количество общения. Иногда она думает, что идеально было бы иметь двух мужчин, каждого на неполный рабочий день. «Я не говорю, что этого никогда не произойдет. Но я не думаю, что смогу это сделать. Я не авантюристка. Я не люблю рисковать». Она говорит ему: «Ты меня не знаешь. Ты не представляешь, как далеко я могу зайти». Но это только для того, чтобы напугать его: «Он меня бесит, но я не могу жить с обыкновенным мужем; и со мной не так уж легко ужиться. Может быть, все-таки он лучший муж для меня».
Я слышал в Коньяке много жалоб на мужей. На каждой новой ступеньке социальной лестницы требования к мужьям увеличиваются, растет раздражение у сорокапятилетних мужчин, отчаянно пытающихся доказать свою сексуальную доблесть. В этом возрасте «очень важно, чтобы они думали, что они главные». Однако не все жены довольствуются этой древней стратегией: если они образованны, располагают свободным временем и любят думать, им надоедают деловые разговоры. Когда-то они развлекались благотворительностью. Сейчас существует около дюжины групп, где женщины встречаются, чтобы обсудить книги и идеи, религию и жизнь в Европе. В религиозных собраниях участвуют мужчины, но литературные собрания только для женщин: там они каждый месяц читают книгу и обсуждают ее за ужином. Они открыли частную библиотеку, которая покупает последние издания и выдает их за пять франков (более старые книги – за три). Здесь регулярно проходят встречи читательниц, в которых участвуют представительницы всех классов.
Затем эти женщины собрались вместе для в высшей степени смелого интеллектуального приключения: они учредили европейский литературный фестиваль, куда приглашают всемирно известных писателей, критиков и художников. Сюда стекаются несколько сотен человек, и отчасти поэтому в таком маленьком городке четыре книжных магазина. Я думаю, что на этом фундаменте однажды может вырасти университет нового типа. В конце концов, Оксфорд, когда в нем основали университет, был городком всего в 950 домов. Это удовлетворило потребность в образованных священниках, адвокатах и учителях, но теперь, когда профессиональной подготовки для интеллектуалов уже недостаточно, пришло время для нового типа университета, который не будет представлять из себя гетто для молодежи, а станет местом, где все поколения смогут обмениваться опытом, традициями и надеждами.
«Во время наших женских собраний я отправляю мужа наверх, и иногда он подслушивает и потом задает мне вопросы», – говорит одна женщина. «Мой муж интересуется только физикой и механикой», – жалуется другая. «Когда он узнал, что я проведу весь день на фестивале, – говорит третья, – он рассердился». «У каждого есть свой тайный сад, – говорит четвертая. – Каждая из нас предстает в какой-то роли. Если бы я показала себя такой, какая я есть, никто бы мне не поверил. Я держу свои мысли при себе. Я не хочу раскрывать свою истинную натуру». «Мужчины, – заключает еще одна, – зарабатывают на жизнь. А мы за них думаем».
Разговор между мужчинами и женщинами едва начался.
Неужели неизбежно, что столько разговоров оказываются бесплодными? Почему, несмотря на многовековой опыт, люди по-прежнему так неуклюжи, грубы, невнимательны в беседе, и даже среди американцев, воспитанных на том, что молчание считается недружественным, 40 процентов жалуются, что они стесняются говорить свободно? Ответ заключается в том, что умение разговаривать все еще находится в зачаточном состоянии.
Память мира забита именами генералов, а не собеседников – может быть, потому, что в прошлом люди говорили гораздо меньше, чем сейчас. «Человека, который много говорит, каким бы мудрым он ни был, причисляют к глупцам», – сказал персидский правитель Кей-Кавус из Горгана, и на протяжении большей части истории мир соглашался с ним. Идеальный герой Гомера, отличавшийся не только мужеством, но и красноречием, был редкостью. Индуистская богиня речи Сарасвати обитала только «на языках поэтов», и, когда обычные люди говорили, она помогала им осознать, что они проявляют божественное творческое начало. В 1787 году один англичанин-путешественник заметил молчаливость французских крестьян в стране, элита которой славилась велеречивостью.
Это древнее молчание крестьян еще заметно в некоторых частях Финляндии, которая считается самой неразговорчивой страной на планете. «Одного слова достаточно, чтобы наделать много бед», – гласит финская пословица. В самой тихой провинции Финляндии, Хяме, гордятся рассказом о фермере, который пришел в гости к соседу и долго сидел молча, ничего не говоря, пока хозяин не спросил его, зачем он пришел. Наконец он выдавил из себя, что у него горит дом. Эти финны жили на уединенных хуторах, а не в деревнях и привыкли хранить молчание. Антропологи говорят, что в Центральной Африке есть места, где люди «не считают себя обязанными высказываться в обществе других людей, потому что именно речь, а не молчание доставляет человеку неприятности». Другие отмечают, что на Мадагаскаре важно следить за тем, что говоришь, так как информация – дефицитный товар, который нужно копить, потому что она дает престиж и потому что, если твое утверждение окажется неточным, это приведет к серьезной потере репутации. Это свойственно не какой-то одной части мира, а многим профессиям и многим ситуациям в других местах: есть достаточно причин молчать, прежде всего – боязнь выставить себя дураком. К моей знакомой пожилой вдове, жившей в нескольких километрах от Оксфорда, приходили другие дамы и просто «сидели с ней», практически ничего не говоря целый час. Что поучительно на Мадагаскаре, так это то, что мужчины настолько беспокоятся о том, чтобы не потерять лицо и не оскорбить других мужчин, что предоставляют слово женщинам. Когда они хотят покритиковать, они просят женщин сделать это за них, что женщины и делают по-французски, а не на малагасийском языке. Когда мужчины погоняют коров, они употребляют только ругательства и только по-французски. А потом мужчины критикуют женщин за то, что у них длинные языки.
Свобода слова была пустым звуком до тех пор, пока люди не избавились от ощущения, что они не умеют правильно выражаться. Им было недостаточно собираться в городах, чтобы научиться разговаривать. Им нужно было сначала преодолеть старую, глубоко укоренившуюся неприязнь к тому, что их прерывали (это воспринималось почти как ножом по горлу). Затем их нужно было побуждать к разговору из-за необходимости обсудить то, в чем они сомневались, и из-за того, что они не знали, чему верить. Языки развязались только тогда, когда ученые и философы стали говорить (еще в Древней Греции, но повторяют и сейчас), что истину познать невозможно, что все постоянно меняется, все многозначно и очень сложно и только скептики мудры. Изобретение демократии тоже требовало, чтобы люди говорили то, что думают, и выражали свое мнение на публичных собраниях. Сиракузы на Сицилии, город греческих иммигрантов, прообраза поселенцев Новой Англии, были первой демократией. Там жил учитель ораторского искусства по имени Коракс. Вскоре риторика стала наивысшим искусством в эллинском мире и самой важной частью образования. Хотя некоторые считали, что для того, чтобы быть впечатляющим оратором, необходимо быть знакомым со всеми областями науки, большинство были слишком нетерпеливы, и поэтому был придуман более короткий путь к успеху: программу свели к простому обучению диспуту, приемам беседы на любую тему, даже если человек ничего о ней не знал. Способность говорить убедительно стала новым повальным увлечением, интеллектуальной игрой, превратившей политику и суды в забаву, когда ораторы соревновались друг с другом, как спортсмены, но порождая гораздо больше сильных эмоций. Самый известный учитель риторики Горгий, сначала служивший послом Сиракуз в Афинах, считал себя магом из-за того, что рифмовал фразы, как будто это заклинания.
Но это была не беседа. Первым известным мастером беседы был Сократ, заменивший словесную перепалку диалогом. Пусть и не он изобрел диалог, который изначально был сицилийской пантомимой или кукольной пьесой, но он ввел понятие о том, что люди не могут быть рассудительны сами по себе, что им нужен кто-то еще, чтобы их стимулировать. До него образцом любой речи был монолог: мудрец или бог говорил, а остальные слушали. Но Сократ пережил травму, связанную с научной деятельностью, и у него осталось чувство, что он никогда не узнает истину. Его блестящая мысль заключалась в том, что, если собрать вместе двух неуверенных в себе людей, они смогут достичь того, чего не могут по отдельности: открыть для себя истину, свою собственную. Спрашивая друг друга и исследуя предубеждения, разделяя каждое из них на множество частей, находя недостатки, никогда не нападая и не оскорбляя, но всегда выискивая, в чем можно было бы согласиться, двигаясь маленькими шажками от согласия в чем-то одном к согласию в другом, они постепенно узнают, в чем цель жизни. Блуждая по Афинам, по рынкам и местам встреч, Сократ демонстрировал, как работает диалог, обращаясь к ремесленникам, политикам и людям всех профессий, расспрашивая об их работе и мнениях. Что бы они ни делали в данный момент, у них должна быть причина, они должны думать, что это правильно, или справедливо, или красиво. И поэтому в дискуссии он акцентировал внимание на значении слов. Он утверждал, что недостаточно просто повторять то, что говорят другие, заимствовать убеждения. Их приходилось вырабатывать самому. Он был учителем, какого никогда прежде не было, который отказывался учить, брать плату, настаивая на том, что он такой же невежественный, как и его ученик, и единственный способ найти смысл жизни – это беседа.
Сократ был исключительно уродлив, почти гротескно, но он показал, как два человека могут стать красивыми друг для друга благодаря тому, как они разговаривают. «Кое-кто из тех, кто посещает мою компанию, сначала кажутся совершенно не умеющими рассуждать, но по мере развития дискуссии все те, кому благоволят небеса, прогрессируют со скоростью, которая кажется удивительной для других, равно как и для них самих, хотя ясно же, что они ничему от меня не научились. Многие удивительные истины, которые они рождают, были открыты ими самими изнутри. Но доставка – дело небес и мое». Мать Сократа была повитухой, и он тоже видел себя в этой роли. Чтобы родились идеи, нужна повитуха. Это было одно из величайших открытий.
Однако некоторые считали Сократа слишком странным, раздражающим, провокационным. То, что мнение разделяли все, не впечатляло Сократа, он все равно подвергал его сомнению. Его ирония приводила в замешательство, потому что он, казалось, имел в виду две противоположные вещи одновременно. Кроме того, он издевался над демократией и предпочел быть приговоренным к смерти, чтобы доказать, что она может быть несправедливой. Жизнь, которая не ставит под сомнение саму себя, говорил он своим преследователям, не стоит того, чтобы жить.