Ты отчего устало дышишь, ворочаясь без отдыха в лагунах, смолкая среди гладких скал? Что, холодно, знобит?
Проснись! Эй, море!
Я к тебе пришел. Ты видишь?
Море, пой. Для меня и тихо. Никому не слышно.
Бриз, ракушки, песок – спят.
Море, пой. Валуны и креветки – спят.
Ночь-бродяжка, сомкнула губы на влажном, горьком твоём плече.
А звёзды, звёзды! Надежда ночи, глаза-гранаты, сапфиры-слёзы – вот сколько их! Объять – не удержать!
Развеются по ветру, если разжать ладони.
Как невозможно уйти от них и заслониться или укрыться ни дереву, ни человеку, ни птице, ни цветку, ни зверю – никому!
Ай, море, море, ты поёшь? Поёшь ли ты?
А звёздные дороги в чёрном небе тихи и беспечальны, бессуетны. Иди по ним к восьми ветрам в любую сторону.
И всё молчит. Всё.
Звёзды, звёзды, не тянитесь к морю, не касайтесь глуби остриём лучей. Пальцы-свечки, не волнуйте светом недра-темноту.
Тише, звёзды, не будите скрипку.
Спит она. Тут на плече. Легко дышат её деки цвета поздней вишни, тёмно-красной. Спелой.
Отчего я плачу? Отчего мне горько?
Слился с морем. Скрипка спит.
И мы вместе.
Я несчастлив? Несвободен?
Хризантемы-звёзды, вы, гранаты-звёзды!
Что сильнее: ненависть или знак доброты?
Кто ответит, кто утешит? Кто поймёт и кто защитит?
Дом – тюрьма.
Там бьют. И не любят. Не жалеют, терпя. Не умеют прощать.
Есть дом, где не лгут?
Есть дом, где прощают и любят?
…По белым камням переулка вернулся я домой.
Франческо Ньекко
Рассказ второй
Бег солнца. Звон лазури. И гул колоколов.
Сияние и жар!
Ну, солнце, ну! Златится, дышит и смеётся. Печёт, ликует, будит. И венчает.
А голоса соборных чаш колоколов, взмывая, увлекали торжеством и бунтом, тонули, вязли, расходились в синей топи-густоте. Никто не мог спасти их, вытащить из тверди неба и лазури. Они звучали для людей и неба, Бога.
– Синьор! Синьор! Где дом со львами? – мой голос рвётся ранней паутиной. Тщедушен, мал и слаб.
Великаны-дворцы, особняки и виллы, сомкните крыши и балконы над заплутавшим ребёнком!
Я потерялся, отбился, устал…
– Где же дом, где же дом?
В чёрном футляре, вытянувшись, спит скрипка: ей тесно и нечем дышать.
– Львы?! – встряхнулся прохожий. И я увидел изумительные глаза: по краю агатовых зрачков взмывал, золотясь, огонь. Погруженный в себя синьор взорвался петардой: – Откуда в Генуе львы? Их дом в Африке, мальчик. А у нас… – И он ожил приневоленной птицей, узнавшей дыхание встречного ветра; о небеса! о солнце! море! камни! звуки!
Приблизил он лицо, и я заметил, как нервная полоска рта поджалась и осветилась белизной зубов.
Лицо его играло смехом, словно мозаика светом в глубине собора.
– Синьор! – пытался объяснить я незнакомцу. – Дом с ручками дверными из львиных морд и лап, хвостов!
– Да-а? – удивился синьор, любезно осведомившись. – Скажи, ребёнок, лапа льва с когтями, и втянуты они в подушки иль выпущены для охоты?
Я отпрянул.
– Хорошо, – сочувственно смотрел синьор, пустясь выпытывать: – Дверь, где лев отрастил оранжевые космы и обнажил клыки, разинув пасть?
И, протянув руку, погладил кольца моих волос.
– Почему лев разинул пасть? – я отстранил его руку: к чему клонит худой, как иссохшая камбала, человек с поджатыми к бокам костлявыми локтями?
– Ты видел львов живых? Когда в их космах путается солнце, а гривы светятся корками апельсинов? – не унимался человек. Задумавшись, заметил: – Это рыжий хозяин готов к прыжку. – И пояснил: – В доме «со львами» живёт скрипач.
– Да, синьор, он должен там жить, мне сказали, – ответил я, смущаясь.



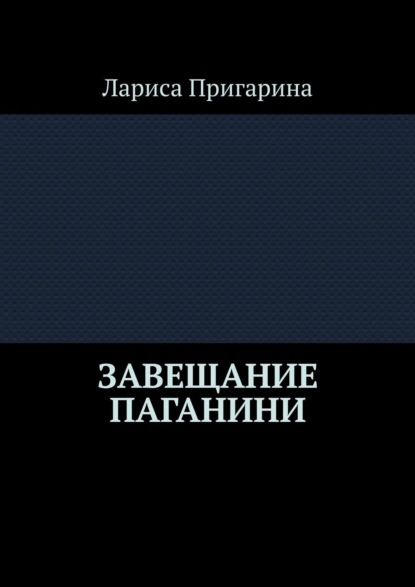




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0