3
«В бесстыдном его взгляде – моя погибель»
Что не так с «Не тем человеком»?
Чтобы выполнить аксиому диалектики, согласно которой единственный способ достичь соответствующего закона мироздания заключается в нахождении исключения из этого закона, начнем с фильма «Не тот человек», одного из тех фильмов, что явно «выдаются» из всего Cuvre Хичкока:
с одной стороны, «Не тот человек» – это Хичкок в наиболее чистом виде. Его особая привязанность к этому фильму подтверждается исключительным характером появления режиссера в кадре: в прологе Хичкок обращается непосредственно к зрителям, напоминая им, что они увидят трагедию, взятую из реальной жизни. Этот пролог производит впечатление безоговорочного оправдания: извините, но вы не увидите обычных трюков из комических фильмов или триллеров – здесь все взаправду, я выложу свои карты на стол и сообщу то, что хотел, напрямую, не облачая в обычный комедиантский костюм…[52 - Еще одним доказательством личной преданности Хичкока этому фильму служит то, что, несмотря на свой значительный интерес к финансовым вопросам, он снял «Не того человека» бесплатно, отказавшись от режиссерского гонорара.];
с другой стороны, столь же очевидно и то, что в самой основе этого фильма что-то не так: в нем есть некий глубинный изъян. Следовательно, надо ответить на два вопроса: что за послание Хичкок пытался выразить в «Не том человеке» «напрямую» и почему ему это не удалось?
Ответ на первый вопрос содержится в том, что обычно называют теологическим измерением творчества Хичкока. История музыканта Балестреро, равновесие спокойной жизни которого внезапно оказалось нарушено непредвиденным случаем (его по ошибке приняли за грабителя банка), являет собой квинтэссенцию хичкоковского мировоззрения, где жестокий, непостижимый и своенравный Бог садистски играет человеческими судьбами. Но что это за Бог, который без видимой причины может превратить нашу повседневную жизнь в кошмар? В своем первопроходческом труде «Хичкок» (1957) Ромер и Шаброль[53 - Rohmer E., Chabrol C. Hitchcock: The First Forty-four Films. New York: Frederick Ungar, 1979.] искали ключ к «хичкоковской вселенной» в католицизме; хотя такой подход сегодня кажется в значительной степени дискредитированным (его затмили великие семиотические и психоаналитические анализы 1970-х гг.), к нему все-таки стоит вернуться, особенно если учесть, что католическая традиция, на которую ссылаются Ромер и Шаброль, – это не католицизм вообще, а янсенизм. Янсенистская проблематика греха, отношений между добродетелью и благодатью, фактически впервые очерчивает отношения между субъектом и Законом, определяющие «хичкоковскую вселенную».
В предисловии к английскому изданию «Образа-Движения» Жиль Делёз обнаруживает связующее звено между Хичкоком и традицией английской мысли в теории внешних отношений[54 - «Хичкок производит кино отношений подобно тому, как английская философия произвела философию отношения» (Deleuze G. Cinema 1: The Movement-Image. London: The Athlone Press, 1986. P. X).], которую английский эмпиризм противопоставлял континентальной традиции, понимавшей развитие объекта как раскрытие свойственного ему потенциала; разве «хичкоковская вселенная», где некое совершенно внешнее и случайное вмешательство Судьбы, никоим образом не основанное на имманентных свойствах субъекта, внезапно изменяющее его символический статус (ошибочная идентификация Торнхилла как Каплана в фильме «К северу через северо-запад», ошибочная идентификация Балестреро в качестве грабителя банка в «Не том человеке» и т. д. – вплоть до супружеской четы в фильме «Мистер и миссис Смит», которая внезапно узнаёт, что их брак был недействительным), – разве она не вписывается в традицию английского эмпиризма, согласно которой объект погружен в случайную сеть внешних отношений? И все-таки этой традиции не хватает субъективного измерения, напряжения, абсурдного разлада между переживанием субъектом собственного «я» и внешней сетью, определяющей его Истину, – то есть не хватает обусловленности этой сети внешних отношений не как простой эмпирической «смеси», а как символической сети, сети интерсубъективной символической структуры. Более подробное изложение можно найти в янсенистской теологии Пор-Рояля.
Отправная точка янсенизма – пропасть, отделяющая человеческую «добродетель» от божественной «благодати»: с точки зрения своей имманентной природы все люди греховны, грех есть нечто определяющее сам их онтологический статус; по этой причине их спасение не может зависеть от добродетели, которая свойственна им как людям, спасение может прийти к ним лишь извне, в качестве божественной благодати. Следовательно, благодать с необходимостью предстает в виде чего-то совершенно случайного – она не имеет отношения к характеру человека или к его поступкам; непостижимым образом Бог заранее решает, кто будет спасен, а кто – проклят[55 - Еще одна основополагающая черта янсенистской идеологии состоит в том, что Бог никогда не вмешивается в мир, открыто совершая чудеса – нарушая законы природы: благодать кажется чудом только верующим, тогда как остальные воспринимают ее как совпадение. Этот круг указывает на то, что благодати присуще отношение переноса; я узнаю чудо – т. е. знамение благодати – в случайности лишь потому, что я уже верую.]. Таким образом, отношение, которое мы в своей повседневной жизни считаем «естественным», полностью переворачивается: Бог не принимает решение о нашем спасении на основании наших добродетельных поступков, но мы совершаем добродетельные поступки, потому что мы спасены заранее. Трагедия главных героев в пьесах Жана Расина, драматурга, разделявшего идеи школы Пор-Рояль, в том, что в этих героях воплощено чрезмерное обострение антагонистических отношений между добродетелью и благодатью: именно Арно, современник Расина, назвал Федру «одной из праведниц, не удостоившихся благодати».
Последствия такого янсенистского раскола между имманентной добродетелью и трансцендентными благодатью или проклятием заходят весьма далеко: янсенизм зачаровывал французских коммунистов в период их наиболее последовательного «сталинизма», поскольку в разобщенности между добродетелью и благодатью им было легко угадать предвестие того, что они называли «объективной ответственностью»: сам по себе человек может быть выше всяких похвал, честным, добродетельным и т. д., и все-таки если он не отмечен печатью «благодати» прозрения исторической Истины, воплощенной в Партии, то он «объективно виновен» и как таковой подлежит осуждению. Таким образом, янсенизм in nuce, в зародыше, содержит такую логику, которая на чудовищных сталинских процессах побуждала виновных признавать свою вину и требовать для себя наиболее сурового наказания: основной парадокс расиновской «Гофолии» заключается в том, что в этой драме о конфликте между приверженцами Иеговы – истинного Бога – и сторонниками языческого Ваала всякий, включая Матфана, верховного жреца Ваала, верит в Иегову, подобно тому как обвиняемые на сталинских процессах знали, что сами они – «отбросы истории», то есть знали, что Истина на стороне Партии[56 - Возникает искушение построить здесь семиотический квадрат в духе Греймаса, чтобы объяснить расположение главных героев в «Гофолии» Расина:Основная оппозиция здесь – между царицей Гофолией, которая добродетельна, но не удостаивается благодати, и верховным жрецом Иодаем, который осенен благодатью, но явно недобродетелен (лишен сострадания, склонен к яростным вспышкам мстительности и т. д.). Место Матфана также ясно и однозначно (он недобродетелен и не осенен благодатью и как таковой является воплощением простого и чистого зла), но трудности возникают с тем, кого считать его противоположностью, т. е. идеальным синтезом благодати и добродетели. Сюда не подходит ни один из двух кандидатов – ни жена Иодая Иосавеф, ни его племянник Иоас, законный претендент на трон Иудеи: сами женские добродетели Иосавеф (сострадание, готовность пойти на компромисс с врагом) делают ее негодной на роль божественного орудия, тогда как само совершенство Иоаса делает его чудовищным, скорее идеологическим автоматом, нежели добродетельным живым существом (и как раз по этой причине он подвержен предательству: впоследствии Иоас действительно предаст Иегову, что открывается в кошмарном видении Иодая). Невозможность заполнить верхнее место схемы обусловлена свойственной идеологическому пространству – пространству, картографируемому семиотическим квадратом добродетели и благодати, – ограниченностью: отношения между благодатью и добродетелью в основе своей антагонистичны, т. е. благодать может найти себе отдушину в виде недобродетели.]. Таким образом, позиция расиновских злодеев выражает парадокс героя де Сада, переиначивающего девиз Паскаля: «Даже если вы не веруете, становитесь на колени и молитесь, действуйте так, как если бы вы веровали, и вера придет сама собой», – герой Сада – это тот, кто (хотя в глубине души он и знает, что Бог существует) действует так, как если бы Бога не существовало, и нарушает все Его заповеди[57 - Особое качество философского деизма Юма заключается в том, что он производит третий вариант этой разобщенности. Деист всерьез воспринимает радикальную инаковость Бога, он понимает негодность наших человеческих понятий для того, чтобы оценивать Его, и извлекает из этого радикальные выводы: всякое почитание Бога человеком фактически приводит к Его принижению, т. е. опускает Его на уровень чего-то постижимого человеком (почитая Бога, мы приписываем Ему самодовольную восприимчивость к нашей лести), – следовательно, единственная достойная Бога позиция такова: «Я знаю, что Бог существует, и все-таки как раз по этой причине я не почитаю Его, а попросту следую элементарным этическим правилам, доступным каждому, будь то верующий или неверующий, посредством врожденного им естественного Разума». (Ср.: Bozovic M. An Utterly Dark Spot: Gaze and Body in Early Modern Philosophy. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000. P. 3–14). Добавляя четвертый, атеистический вариант («Я знаю, что Бога не существует, но по этой самой причине чувствую себя обязанным следовать элементарным этическим правилам, доступным каждому, будь то верующий или неверующий…»), мы опять-таки получаем греймасовский семиотический квадрат, где четыре позиции можно разбить на две контрадикторные и две контрарные пары.].
Если такое включение Хичкока в янсенистскую родословную кажется натянутым, то достаточно вспомнить важнейшую роль, которую играет взгляд и в фильмах Хичкока, и в пьесах Расина. Сюжет его самой знаменитой пьесы «Федра» вращается вокруг неверной интерпретации взгляда: Федра, жена царя Тесея, открывает свою любовь Ипполиту, царскому сыну от предыдущего брака, и получает жестокий отказ; когда входит ее муж, она принимает мрачное выражение лица Ипполита – на самом деле знак его печали – за дерзкую решимость выдать ее царю и мстит ему, результатом чего становится ее собственная гибель[58 - Как в известной истории о «встрече в Самарре», когда слуга принимает удивленный взгляд Смерти за смертельную угрозу; см. главу вторую в: Zizek S. The Sublime Object of Ideology. London: Verso Books, 1989 (изд. на рус. яз.: Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. Гл. 2. – Примеч. ред.).]. Стих 910 «Федры», где высказано это неверное толкование («В бесстыдном его взгляде – моя погибель!»[59 - «Ah! je vois Hippolyte; / Dans ses yeux insolents je vois ma perte еcrite» (Racine J. Phe?dre, 909–910) (в рус. переводе М. А. Донского: «Погибла я! С каким презреньем неприкрытым / Враг на меня глядит». – Примеч. ред.).]), может служить подходящим эпитетом для хичкоковской вселенной, где взгляд Другого – вплоть до последнего взгляда Нормана Бейтса в камеру из «Психо» – воплощает угрозу смерти, где саспенс никогда не бывает результатом физического столкновения между субъектом и агрессором, но всегда включает в себя опосредование того, что субъект вкладывает во взгляд другого[60 - Возможно, наилучшим примером служит обмен взглядами между Ингрид Бергман, Кэри Грантом и Клодом Рейнсом в сцене приема из «Дурной славы».]. Иными словами, взгляд Ипполита служит превосходной иллюстрацией тезиса Лакана о том, что взгляд, с которым я встречаюсь, «есть не зримый взгляд, а взгляд, воображаемый мною в поле Другого»[61 - Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. Harmond-sworth: Penguin, 1977. P. 84.]: взгляд – это не взгляд другого как таковой, но способ, каким этот взгляд «касается меня (me regarde)», способ, каким субъект видит самого себя затронутым своим желанием, – взгляд Ипполита – это не просто ситуация, когда Ипполит смотрит на Федру, но угроза, которую Федра видит в нем, «вкладывает в него» с позиции своего желания»[62 - Бражник мертвая голова являет собой, быть может, наиболее наглядный пример такой рефлексивности взгляда, работающей при мимикрии. Т. е. обычное понятие мимикрии включает в себя просто обманчивый облик, который заставляет взгляд принимать животное не за то, что оно есть (саранча напоминает щепку; маленькая немощная рыбка раздувается и принимает угрожающие пропорции); но в случае с бражником мертвая голова животное обманывает наш взгляд тем, что мимикрирует под сам взгляд, т. е. являет себя нашему взору как то, что возвращает взгляд. Лакан часто вспоминает классическую историю о состязании двух древнегреческих живописцев, Зевксиса и Паррасия: победа присуждается Паррасию, который изображает на стене покрывало; к нему поворачивается Зевксис и говорит: «Ну а теперь покажи, что ты изобразил под покрывалом». Обман, связанный с бражником мертвая голова, располагается на том же уровне: он вводит в заблуждение наш взгляд не посредством убедительных черт имитируемого объекта, а тем, что порождает иллюзию ответа на сам взгляд. А разве оптический обман с «окном во двор» в одноименном фильме Хичкока, по сути, не является тем же? Черное окно на противоположной стороне двора возбуждает любопытство Джеймса Стюарта как раз потому, что он воспринимает его как своего рода вуаль, которую он хочет сдернуть, чтобы увидеть, что за ней скрыто; эта ловушка работает лишь постольку, поскольку он воображает в ней присутствие взгляда Другого, ибо, как говорит Лакан, скрывающаяся за видимостью «вещь в себе» есть не что иное, как взгляд.].
Таинственная связь, которая соединяет две указанные черты: чистую «машину» (множество внешних отношений, обусловливающих судьбу субъекта) и чистый взгляд (в терминах Лакана «структура означающего», его automaton, – и objet petit a, его случайный остаток, tyche, судьба), – служит ключом как к расиновской, так и к хичкоковской вселенной. Первый намек на характер этой связи можно обнаружить при более внимательном рассмотрении указанной сцены из «Федры»: важнейшая ее особенность – присутствие третьего взгляда, взгляда царя Тесея. Взаимодействие взглядов Федры и Ипполита предполагает некую Третичность, агента, под чьим бдительным взором оно развертывается, агента, которого необходимо любой ценой держать в неведении касательно истинного характера дела. И не случайно роль эта отведена царю – кто, как не царь, основной гарант социальной ткани, лучше всего способен воплотить слепой механизм символического порядка как такового? Конфигурация напоминает здесь конфигурацию из новеллы Э. По «Похищенное письмо», где мы также присутствуем при поединке двух взглядов (королевы и министра) на фоне третьего взгляда (взгляда короля), которого следует держать в неведении относительно сути дела. И разве мы не сталкиваемся со схожей конфигурацией в «39 ступенях», а также в двух более поздних хичкоковских вариациях той же формулы («Саботажник», «К северу через северо-запад»), а именно – в сцене поединка между героем и его противниками на фоне ничего не ведающей толпы (политическое собрание в первом фильме, благотворительный бал – во втором, аукцион – в третьем)? В «Саботажнике», к примеру, герой пытается вызволить свою подругу из рук нацистских агентов и бежать с ней; но сцена происходит в большом зале, на виду у сотен гостей, и потому обеим сторонам приходится соблюдать правила этикета, то есть действия, которые каждая из них предпринимает против противной стороны, должны согласовываться с правилами социальной игры; Другого (воплощенного в толпе) следует держать в неведении относительно истинных ставок в игре[63 - Подробнее см. главу четвертую в: Zizek S. Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.].
Следовательно, ответ на наш первый вопрос таков: в фильме «Не тот человек» в наиболее чистом виде инсценирована теологическая подоплека хичкоковской вселенной, где героями по своему произволу распоряжается Dieu obscur (темный бог), непредсказуемый Фатум, воплощенный в гигантских каменных статуях, регулярно появляющихся в фильмах Хичкока (от египетской богини в Британском музее в «Шантаже» и статуи Свободы в «Саботажнике» – до голов президентов на горе Рашмор в «К северу через северо-запад»). Эти боги слепы в своем блаженном неведении; их механика работает независимо от мелких человеческих дел; Фатум же вмешивается в виде случайного совпадения, которое радикально изменяет символический статус героя[64 - Конечно же, здесь структурная гомология напрашивается сама собой: такой совершенно внешний характер символической сети, определяющей судьбу субъекта по отношению к его внутренним свойствам, постижим только на фоне вселенной/товара, где «судьба» товара, его обмен/обращение, воспринимается как нечто радикально внешнее по отношению к позитивным, внутренним свойствам (его «потребительной стоимости»). Однако не стоит злоупотреблять использованием таких абстрактных гомологий – в конечном итоге они функционируют в качестве оправдания за отсрочку в развитии конкретных механизмов опосредования.]. На самом деле лишь тонкая линия отделяет это понятие – Dieu obscur – от садовского понятия «верховного злого существа»[65 - Эту линию – среди прочих – пересек капитан Ахав в «Моби Дике» Мелвилла. Ахав прекрасно осознает, что Моби Дик – эта непристойная Вещь par excellence – просто гигантское глупое животное; но как таковое оно представляет собой картонную маску реального Зла, Бога, создавшего мир, где человеку в конечном итоге не остается ничего, кроме страдания. Поэтому цель Ахава состоит в том, чтобы, поразив Моби Дика, нанести удар по самому Творцу.].
Что же касается нашего второго вопроса, то ответ на него дает другая статуя, которая как раз не появляется ни в одном из фильмов Хичкока: Сфинкс. Здесь мы имеем в виду фотографию Хичкока на фоне Сфинкса, оба лика даны в профиль, что подчеркивает параллелизм между ними – в конечном счете Хичкок и сам в своем отношении к зрителю берет на себя парадоксальную роль «великодушного злого Бога», дергающего за веревочки и играющего в игры с публикой. Иначе говоря, Хичкок в качестве великого автора представляет собой уменьшенное, «эстетизированное» зеркальное отражение непостижимого и своевольного Творца. А сложность с «Не тем человеком» заключается в том, что в этом фильме Хичкок отверг такую роль «великодушного злого Бога» и попытался передать послание «напрямую» и «серьезно», получив парадоксальный результат – само его послание лишилось своей убедительности. Иными словами, метаязыка не существует: послание (взгляд на мироздание, подчиняющееся произволу жестокого и непостижимого Dieu obscur) можно передать только в художественной форме, которая сама подражает своей структуре[66 - Поэтому «Не тот человек» потерпел неудачу в качестве «серьезного» фильма по той же причине, по какой фильм «Мистер и миссис Смит» провалился как комедия: хичкоковское мастерство во владении комической деталью остается непревзойденным до тех пор, пока оно не выходит за рамки триллера, но как только Хичкок обращается к комедии напрямую, магический ореол пропадает.]. Когда Хичкок поддался искушению «серьезного» психологического реализма, даже самые трагические моменты, запечатленные в фильме, почему-то не трогают нас, несмотря на то что Хичкок прилагает неописуемые усилия, чтобы вызвать у нас потрясение…
Аллегории у Хичкока
Здесь мы соприкасаемся с вопросом об «изначальном опыте» Хичкока, о травматическом ядре, вокруг которого вращаются его фильмы. Сегодня такая проблематика может казаться устарелой, будучи примером наивных «редукционистских» поисков «действительной» психологической основы художественной литературы, вследствие чего психоаналитическая критика приобрела весьма дурную репутацию. Но есть и другая разновидность такого подхода. Возьмем три далеких друг от друга произведения: «Империю солнца» Дж. Г. Балларда, «Идеального шпиона» Джона Ле Карре и «Черный дождь» Ридли Скотта – что общего между ними? Во всех трех случаях автор – после ряда произведений, которые устанавливали известную тематическую и стилистическую преемственность, очерчивающую контуры особой художественной «вселенной», – в конечном итоге берется за «эмпирический» фрагмент реальности, который служил ее опорой в сфере опыта.
Вслед за рядом научно-фантастических романов, одержимых мотивом блуждания по заброшенному миру, оказавшемуся в состоянии упадка; по миру, заполненному обломками погибшей цивилизации, «Империя солнца» дает литературное описание детства Балларда, когда в одиннадцатилетнем возрасте после оккупации Шанхая японцами он оказался оторванным от родителей, оставшись в одиночестве в городском квартале, где раньше жили богатые иностранцы; ему оставалось блуждать между заброшенными виллами с высохшими, растрескавшимися бассейнами… «Цирк» Ле Карре – блестящее описание мира шпионов с предательством, манипуляцией и двойным обманом; в «Идеальном шпионе», написанном сразу же после смерти отца, Ле Карре раскрыл источник своей одержимости предательством: двусмысленные отношения с отцом, порочным мошенником. В фильмах Ридли Скотта показываются развращенные и разлагающиеся мегаполисы (как ехидно заметил один критик, Скотт не может снять улицу без «атмосферной» грязи и омерзительного тумана); в «Черном дожде» он наконец-то нашел объект, реальность которого подкрепляет эту картину: сегодняшний Токио – там нет нужды придумывать мрачные образы Лос-Анджелеса 2080 г., как в «Бегущем по лезвию бритвы»…
Теперь должно стать ясно, почему то, о чем здесь идет речь, не является «психологическим редукционизмом»: извлеченный на свет фрагмент опыта (детство в оккупированном Шанхае; непристойная фигура отца; сегодняшний японский мегаполис) – это не просто «действительная» точка отсчета, позволяющая нам свести фантазию к реальности, но, напротив, точка, где сама реальность соприкасается с фантазией (возникает даже соблазн сказать: посягает на нее), – то есть точка короткого замыкания, вследствие которого травматическая фантазия вторгается в реальность, – здесь, в этот уникальный момент столкновения, реальность кажется «более похожей на грезу, чем сами грезы». На этом фоне причины провала «Не того человека» становятся немного яснее: фильм действительно передает эмпирическую основу хичкоковской вселенной, но этой основе просто недостает фантазматического измерения – чудесного столкновения не происходит, реальность остается «просто реальностью», фантазия не встречает в ней своего отзвука.
Иными словами, в «Не том человеке» отсутствует аллегорическое измерение: высказываемое в этом фильме (диегетическое содержание) не указывает на процесс своего высказывания (отношения Хичкока с публикой). Такое модернистское представление об аллегории, конечно, противопоставляется традиционному: в рамках традиционного пространства повествования диегетическое содержание функционирует как аллегория некоей трансцендентной сущности (индивиды из плоти и крови воплощают трансцендентные принципы: Любовь, Искушение, Измену и т. д.; они предоставляют внешнее облачение для сверхчувственных идей), тогда как в пространстве модернизма диегетическое содержание постулируется и воспринимается как аллегория собственного процесса высказывания. В книге «Убийственный взгляд»[67 - Rothman W. The Murderous Gaze. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.] Уильям Ротман расшифровывает все Cuvres Хичкока как аллегорическую инсценировку «великодушно-садистских» отношений между Хичкоком и его публикой; возникает даже искушение сказать, что фильмы Хичкока в конечном счете содержат только две субъектные позиции: позицию режиссера и позицию зрителя – все диегетические персонажи по очереди занимают одну из этих двух позиций.
Наиболее ясный случай такой аллегорической саморефлексивной структуры встречается в «Психо»: гораздо более убедительным, нежели традиционное аллегорическое прочтение (интерпретация полицейского, который останавливает Мэрион как раз перед тем, как она попадает в мотель к Бейтсу, к примеру, как ангела, посланного Провидением, чтобы остановить ее на пути к погибели), является прочтение, интерпретирующее диегетическое содержание как то, что дублирует позицию зрителя (его вуайеризм) либо режиссера (наказание режиссером вуайеризма зрителя)[68 - В книге Стивена Ребелло (Rebello S. Alfred Hitchcock and the Making of ‘Psycho’. New York: Dembner, 1990) собраны свидетельства того, что Хичкок, вопреки давлению, настоял на необходимости целого ряда тем, которые могут показаться зрителю, незнакомому с аллегорическим измерением этого фильма, всего лишь непонятным потаканием наихудшим коммерческим инстинктам: он выступил против превращения Сэма и Лайлы в полноценных героев, т. е. их следовало оставить «плоскими» инструментами для нашего расследования тайны матери Нормана; из окончательного варианта фильма он вырезал снятый сверху кадр, в котором убитая Мэрион лежала обнаженной рядом со струей из душа, хотя все в окружении режиссера признавали грандиозную поэтическую силу этого кадра, напоминающего о трагически бессмысленной, попусту растраченной жизни девушки. В рамках диегетического повествовательного содержания эти элементы, несомненно, кое-что добавили бы к ткани фильма; однако же стоит нам учесть саморефлексивный аллегорический уровень, и становится ясно, отчего они излишни: они служили бы своеобразным шумом, мешающим диалогу между Хичкоком и зрителем. Еще одна причина, в силу которой отношения между Сэмом и Лайлой должны оставаться «пустыми», заключается в антагонизме между партнерством и любовью в фильмах Хичкока: начиная с 1940-х гг. партнерство все больше мешает любви или какому-то иному искреннему чувственному влечению. Иными словами, «полноценный» роман между Сэмом и Лайлой вовсе не способствовал бы приданию фильму психологической глубины, а только вырвал бы из него критико-идеологическое жало.]. «Чтобы избежать перечисления хорошо известных примеров, свидетельствующих о том, как Хичкок обыгрывает двусмысленный и раздвоенный характер зрительского желания (замедленное погружение в болото автомобиля Мэрион в “Психо”; многочисленные намеки на вуайеризм зрителя, начиная с “Окна во двор” и заканчивая “Психо”; рука Грейс Келли, протянутая за помощью к камере, т. е. к зрителю, в фильме “В случае убийства набирайте ‘М’”; “наказание” зрителя, состоящее в полной реализации его желания и живописующее смерть злодея во всех ее отвратительных деталях, от “Саботажника” до “Разорванного занавеса” и т. д.), ограничимся второй сценой из “Психо”: Мэрион (Джанет Ли) входит в свой офис, за ней следуют босс с нефтяным миллионером, который в хвастливо-непристойной манере показывает сорок тысяч долларов. Ключом к этой сцене служит эпизод с участием самого Хичкока»[69 - См. Poague L. Links in a Chain: Psycho and Film Classicism // A Hitchcock Reader / ed. M. Deutelbaum, L. Poague. Ames: Iowa State University Press, 1986. P. 340–349.]: на мгновение мы видим его сквозь оконное стекло стоящим на мостовой; когда же через несколько секунд с того места, где стоял Хичкок, в офис входит миллионер, на нем та же ковбойская шляпа – таким образом, миллионер является своеобразным дублером Хичкока, посланным им в фильм, чтобы ввести Мэрион в искушение и тем самым подтолкнуть сюжет в желаемом направлении… Хотя «Не тот человек» и «Психо» во многих отношениях схожи (черно-белая блеклость изображаемой в них повседневной жизни; разрыв в повествовательной линии и т. д.), различие между ними непреодолимо.
Классический марксистский упрек здесь, разумеется, заключался бы в том, что основная функция такой аллегорической процедуры, посредством которой результат отражает свой формальный процесс, состоит в том, чтобы сделать невидимым социальное опосредование этой аллегории и тем самым нейтрализовать ее социально-критический потенциал, – словно для того, чтобы заполнить пустоту социального содержания, произведение обращается к собственной форме. И разве упрек не подтверждается per negationem, через отрицание, в фильме «Не тот человек», который из всех фильмов Хичкока – вследствие отказа от аллегории – ближе всего подходит к «социальной критике» (мрачная повседневная жизнь, затянутая в иррациональные шестеренки судебной бюрократии…)? Но здесь возникает соблазн выступить в защиту линии аргументации, полностью противоположной этой[70 - Соблазн, которому – по крайней мере единожды – поддался даже Фредрик Джеймисон; см.: Jameson F. Allegorizing Hitchcock // Signatures of the Visible. NewYork: Routledge, 1990. P. 127.]: наиболее мощный критико-идеологический потенциал фильмов Хичкока содержится как раз в их аллегорическом характере. Чтобы этот потенциал хичкоковской «благожелательно-садистской» игры со зрителем стал очевидным, следует принять во внимание понятие садизма в том строгом виде, как его разработал Лакан. В своей работе «Кант с Садом» Лакан предложил две схемы, отражающие матрицу двух стадий садовской фантазии[71 - Lacan J. Kant with Sade // October 51 (Winter 1990). Cambridge: MIT Press.], – вот первая схема:
V (volontе) обозначает волю-к-наслаждению, основополагающее качество садовского субъекта, его стремление находить наслаждение в боли другого; тогда как S и есть этот страдающий субъект, и притом (в этом соль лакановского утверждения) как таковой, «не перечеркнутый», полный: садист – это в некотором роде паразит, ищущий подтверждения собственного бытия. Посредством его страдания другой – его жертва – подтверждает себя в качестве сопротивляющейся плотной субстанции: живая плоть, в которую садист врезается, так сказать, удостоверяет полноту бытия. Таким образом, верхний уровень схемы, V ? S, обозначает явные садистские отношения: извращенец-садист воплощает волю-к-наслаждению, которая мучит жертву, чтобы достичь полноты бытия. Лакановский тезис, однако, состоит в том, что в этих явных отношениях кроются и другие, латентные, каковые являются «истиной» первых. Эти другие отношения находятся на нижнем уровне схемы: отношения между объектом-причиной желания и расщепленным субъектом. Иначе говоря, садист как агрессивная воля-к-наслаждению есть не что иное, как видимость, чьей «истиной» является objet a: его «истинная» позиция – быть объектом-орудием наслаждения Другого.
Садист действует не для собственного наслаждения; скорее, он стремится избежать субъектообразующей расщепленности, беря на себя роль объекта-орудия, служащего большому Другому (историко-политический пример: коммунист-сталинист, считающий себя орудием истории, средством осуществления исторической Необходимости). Тем самым расщепленность переносится на другого, на мучимую жертву: жертва никогда не бывает чисто пассивной субстанцией, неперечеркнутой «полнотой бытия», поскольку результативность садистских действий зависит от расщепленности жертвы (например, от ее стыда за то, что с ней происходит) – садист наслаждается лишь постольку, поскольку его деятельность вызывает такое расщепление в другом. (В сталинском коммунизме это расщепление приводит к непристойному «прибавочному наслаждению», характерному для позиции коммуниста: коммунист действует во имя Народа – то есть то, что он по своему произволу терзает народ, и есть для него сама форма «служения народу»; сталинист же действует как чистый посредник, как инструмент, посредством которого народ, так сказать, терзает себя сам…) Поэтому подлинное желание садиста (d – dеsir, желание – в левом нижнем углу схемы) – действовать в качестве орудия наслаждения Другого как «верховного злого существа»[72 - Знаток Лакана без труда узнает в этой схеме прообраз «дискурса Господина» из матрицы четырех дискурсов: Воля-к-наслаждению (V) обозначает позицию Господина (S1), занимаемую агентом дискурса – садистом – на явном уровне, тогда как его партнером, S, является его другой, на которого садист переносит «боль бытия»; на нижнем уровне происходит смена термов (a<> $, но не $ <>a), потому что садистская извращенность, как говорит Лакан, переворачивает формулу фантазии, т. е. происходит столкновение перечеркнутого субъекта с объектом-причиной его желания.]. Однако же здесь Лакан делает следующий важный шаг: первая схема в ее полноте передает структуру этой садовской фантазии; но все-таки Сад не позволял собственной фантазии себя одурачить, он прекрасно осознавал, что место ее – в других структурах, которые ее обусловливают. Мы можем получить эти другие структуры, просто повернув первую схему на 90°:
Таково «действительное» положение субъекта, предающегося садистским фантазиям: это объект-жертва, зависящий от произвола садовской воли большого Другого, которая, как говорит Лакан, «переходит в моральное принуждение». Лакан иллюстрирует этот тезис на примере самого Сада, в случае с которым это принуждение приняло форму морального давления, оказываемого на него его окружением, тещей, которая непрерывно отправляла его в заточение, и так вплоть до Наполеона, поселившего его в психиатрической лечебнице.
Таким образом, Сад – субъект, производивший «садистские» сценарии в бешеном ритме, – на самом деле был жертвой бесконечных домогательств, объектом, на котором государственные инстанции изживали собственный моралистический садизм: подлинная воля-к-наслаждению уже работает в государственно-бюрократическом аппарате, который манипулирует субъектом. В результате получается $, перечеркнутый субъект – и здесь это следует читать буквально, как удаление, как стирание субъекта из ткани символической традиции: изгнание Сада из «официальной» (литературной) истории, в результате чего от него как от личности не осталось почти никаких следов. S, патологически страдающий субъект, фигурирует здесь как сообщество тех, кто – когда Сад был жив – оказывал ему поддержку вопреки всевозможным трудностям (его жена, свояченица, слуга), и прежде всего как сообщество тех, кто после его смерти не переставал восхищаться его произведениями (писатели, философы, литературные критики…). Как раз теперь становятся ясными причины, по которым схема садовской фантазии должна прочитываться в обратном направлении – исходя из матрицы четырех дискурсов: схема обретает последовательность, если ее четвертый терм S мы читаем как S2, (университетское) знание, стремящееся проникнуть в тайну творчества Сада. (В этом смысле об а во второй схеме можно сказать, что оно обозначает то, что осталось от Сада после его смерти, объект-продукт, посредством которого Сад провоцировал моралистически-садистскую реакцию Господина: а – это, конечно же, его творчество, его писательское наследие).
Итак, поворот схемы на 90° ставит садиста в позицию жертвы: поначалу выглядело, будто трансгрессия ниспровергает закон, а оказалось, что она сама принадлежит закону – сам Закон и есть изначальное извращение. (В сталинизме этот сдвиг характеризует момент, когда сам сталинист превращается в жертву и вынужден пожертвовать собой во имя высших интересов Партии, признать свою вину на политическом процессе… $ обозначает здесь его стирание из анналов истории, превращение в «неличность»[73 - В семинаре о переносе Лакан отметил решающее различие между неврозом (истерия) и извращением в том, что касается их отношения к общественному строю; поскольку истерия обозначает сопротивление социальной интерпелляции, согласию с заданной социальной идентичностью, она по определению является подрывной, тогда как извращение по своей структуре сугубо «конструктивно» и может быть без труда поставлено на службу существующему общественному строю. См.: Lacan J. Le Sеminaire. Livre VIII: Le transfert. Paris: Еditions du Seuil, 1991. P. 93.].) Этот поворот на 90° также объясняет логику садовской игры со зрителем у Хичкока. Во-первых, он ставит для зрителя ловушку садистской идентификации тем, что возбуждает в нем «садистское» желание увидеть, как герой сокрушит «плохого парня», эту мучительную «полноту бытия»… Когда же зрителя наполняет воля-к-наслаждению, Хичкок захлопывает ловушку, попросту осуществляя зрительское желание: полностью реализовав свое желание, зритель получает больше, чем просил (акт убийства во всем его тошнотворном присутствии – образцовый случай здесь: убийство Громека в «Разорванном занавесе»), и тем самым зрителя заставляют признать, что в тот самый момент, когда он был одержим стремлением увидеть, как «плохой парень» будет уничтожен, им, по сути дела, манипулировал единственный настоящий садист, сам Хичкок. Такое умиротворение приводит зрителя к столкновению с противоречивым, расщепленным характером его желания (он хочет, чтобы плохой парень был безжалостно уничтожен, но в то же время не готов заплатить за это сполна: как только зритель видит свое желание осуществленным, он, будучи пристыженным, удаляется), а результатом, продуктом, является S2: знание, то есть бесконечный поток книг и статей о Хичкоке.
От I к а
Задействованный здесь сдвиг – или поворот – можно также определить и как переход от I к а, от взгляда как точки символической идентификации к взгляду как объекту. То есть перед тем, как зритель отождествит себя с героями из диегетической реальности, он отождествит себя с ними как с чистым взглядом, то есть с абстрактной точкой, которая смотрит с экрана[74 - Здесь мы, конечно же, отсылаем читателя к анализу Кристиана Меца из его статьи «Воображаемое означающее»: Metz Ch. The Imaginary Signifier // Psychoanalysis and Cinema. London: Macmillan, 1982.]. «Эта идеальная точка предполагает чистую форму идеологии, поскольку она притязает на свободное плавание в некоем пустом пространстве, не будучи нагруженной каким-либо желанием – как если бы зритель сводился к некоему абсолютно невидимому, не имеющему субстанции свидетелю событий, которые происходят «сами по себе», независимо от присутствия его взгляда. Однако же посредством сдвига от I к а зрителя заставляют столкнуться с желанием, действующим в его будто бы «нейтральном» взгляде, – здесь достаточно вспомнить знаменитую сцену из «Психо», когда Норман Бейтс нервно наблюдает за тем, как автомобиль с телом Мэрион погружается в болото, находящееся за домом его матери: когда же автомобиль на секунду перестает погружаться, тревога, автоматически возникающая у зрителя – знак его солидарности с Норманом, – внезапно напоминает зрителю, что его желание тождественно желанию Нормана; что его безучастность всегда была неискренней. В тот самый момент его взгляд деидеализируется: чистота этого взгляда замарана патологическим пятном, и в результате возникает желание, в котором взгляд находит себе опору: зритель вынужден признать, что сцена, свидетелем которой он оказался, поставлена для его глаз, что его взгляд был включен в нее с самого начала.
Существует известная история об антропологической экспедиции, стремившейся завязать контакт с «диким» племенем из новозеландских джунглей, с племенем, о котором говорили, что оно устраивает зловещие воинские пляски в нелепых масках; когда экспедиция встретилась с этим племенем, ее участники попросили туземцев продемонстрировать этот танец, и выяснилось, что танец на самом деле соответствует описаниям; итак, антропологи получили желаемый материал о странных и страшных обычаях аборигенов. Однако вскоре было доказано, что этой дикой пляски не существует вообще: аборигены всего лишь постарались выполнить желания исследователей; в своих разговорах с исследователями аборигены поняли, чего от них хотят, и воспроизвели это для исследователей… Именно это Лакан и имеет в виду, когда говорит, что желание субъекта есть желание другого: аборигены вернули исследователям их собственное желание; извращенная странность, казавшаяся исследователям «чудовищно жуткой», была разыграна специально для них. Тот же парадокс стал объектом превосходной сатиры в фильме «Совершенно секретно» (братья Цукер и Абрахамс, 1978), в комедии о западных туристах в (теперь уже бывшей) ГДР: на пограничной железнодорожной станции сквозь окно поезда они видят ужасное: жестокую полицию, собак, избитых детей, – однако же как только досмотр заканчивается, все сотрудники таможни уходят, избитые дети встают, стряхивая с себя пыль, – словом, все представление «коммунистической жестокости» было поставлено для западных глаз.
Здесь мы имеем точку, обратно симметричную иллюзии, определяющей идеологическую интерпелляцию: иллюзию, будто Другой всегда/уже смотрит на нас, обращается к нам. Если мы узнаем самих себя в качестве подвергшихся интерпелляции, в качестве адресатов идеологического призыва, то мы не узнаем радикальную случайность того, что мы оказались в месте, где к нам интерпеллировали, – то есть нам не удается обнаружить, как наше «спонтанное» восприятие того, что Другой (Бог, Нация и т. д.) избрал нас в качестве адресата своего обращения, происходит из ретроактивного превращения случайности в необходимость: дело не в том, что мы узнаем себя в призыве идеологии из-за того, что мы оказались избранными; наоборот, мы считаем себя избранными, адресатами призыва из-за того, что в этом призыве мы узнали самих себя – случайный акт узнавания ретроактивно порождает свою собственную необходимость (та же иллюзия возникает, когда читатель гороскопа «узнает» себя в качестве адресата этого гороскопа, воспринимая случайные совпадения невразумительных предсказаний с собственной жизнью как доказательство того, что гороскоп «говорит о нем»).
С другой стороны, иллюзия, связанная с нашим отождествлением с чистым взглядом, гораздо тоньше: когда мы воспринимаем самих себя в качестве посторонних наблюдателей, украдкой бросающих взгляд на некую величественную Тайну, которая безразлична по отношению к нам, мы остаемся слепыми к тому обстоятельству, что зрелище, каковым является Тайна, инсценировано специально для нашего взгляда, чтобы привлекать и зачаровывать наш взор; здесь Другой обманывает нас тем, что заставляет поверить, что мы – не избранные; здесь сам подлинный адресат по ошибке принимает собственную позицию за позицию случайного постороннего наблюдателя[75 - Нетрудно заметить, что это возвращает нас к янсенистской проблематике предопределения. О дальнейшей разработке того, каким образом эта иллюзия задействована в идеологическом процессе, см.: Zizek S. For They Know Not What They Do. London: Verso, 1991. Ch. 3.].
Элементарная стратегия Хичкока заключается в следующем: благодаря рефлексивному включению зрительского взгляда зритель начинает понимать, что этот его взгляд всегда/уже пристрастен, «идеологичен», отмечен «патологическим» желанием. Здесь хичкоковская стратегия носит куда более подрывной характер, чем может показаться на первый взгляд: каков же на самом деле точный статус желания зрителя, которое осуществлено в вышеупомянутом примере убийства Громека из «Разорванного занавеса»? Основополагающий факт состоит в том, что это желание воспринимается как «трансгрессия» социально разрешенного, как желание того, чтобы наступил момент, когда, так сказать, будет позволено нарушить Закон во имя самого же Закона, – здесь мы опять-таки сталкиваемся с извращением как с социально «конструктивной» позицией: можно предаваться беззаконным порывам, пытать и убивать во имя защиты закона и порядка и т. д. Это извращение основывается на расщеплении поля Закона на Закон как «Я-Идеал», то есть символический порядок, который регулирует общественную жизнь и поддерживает социальный мир, – и на его непристойную изнанку Сверх-Я.
Как показали многочисленные исследования, начиная с Бахтина, периодические трансгрессии суть неотъемлемая часть общественного порядка; они играют роль условия стабильности последнего. (Ошибка Бахтина – или, скорее, некоторых его последователей – заключалась в том, что они дали идеализированный образ этих «трансгрессий»; в том, что они обходили молчанием линчевания и т. д. как важнейшую форму «временной карнавальной отмены социальной иерархии».) Глубочайшая идентификация, «способствующая сплоченности сообщества», – это не столько идентификация с Законом, который регулирует «нормальное» течение повседневной жизни этого сообщества, сколько идентификация с особой формой трансгрессии этого Закона, его приостановкой (в психоаналитических терминах со специфической формой наслаждения). Вспомним белые общины небольших городов американского Юга 1920-х гг., где господство официального, публичного Закона сопровождалось его темным двойником, ночным террором Ку-клукс-клана, линчеванием бессильных негров и т. д.: (белому) человеку легко прощаются по крайней мере незначительные прегрешения против Закона, особенно когда их можно оправдать «кодексом чести»; сообщество по-прежнему считает его «одним из нас» (легендарные примеры солидарности с преступившим закон в изобилии имеются среди белых общин Юга); но его действительно отлучат от сообщества и будут воспринимать не как «одного из нас», как только он отречется от специфической формы трансгрессии, которая подобает этому сообществу, – скажем, как только он откажется принимать участие в ритуальных ку-клукс-клановских линчеваниях или, более того, сообщит о них Закону (который, конечно, ничего не желает слышать о них, ибо они суть воплощение его собственной изнанки).
Сообщество нацистов основывалось на той же общности вины, устанавливаемой соучастием в общей трансгрессии: тех, кто не был готов принять темную изнанку идиллической Volksgemeinschaft, народной общины, оно подвергало остракизму – ночные погромы, избиение политических противников – словом, все, что «было известно каждому, но о чем не хотели говорить вслух». В этом и состоит суть того, что мы хотим сказать: «отчужденная» идентификация, идентификация, функционирование которой подвешивается в результате аллегорической игры Хичкока со зрителем, и есть эта самая идентификация с трансгрессией. И именно тогда, когда Хичкок предстает в своей наиболее конформистской ипостаси, когда он восхваляет положения Закона и т. д., критико-идеологический крот уже проделал свою работу – основополагающая идентификация с «трансгрессивным» режимом наслаждения, которая сплачивает сообщество, – короче говоря, материя, из которой на самом деле сотканы идеологические грезы, – непоправимо замарана…
«Психо» и лента Мебиуса
«Психо» доводит такое хичкоковское опрокидывание идентификации зрителя до самого предела, заставляя его идентифицировать себя с бездной по ту сторону идентификации. Другими словами, ключ, позволяющий нам проникнуть в тайну фильма, следует искать в разрыве, в смене модальности, отделяющей первую треть фильма от двух последних третей (в соответствии с теорией «золотого сечения», согласно которой отношение меньшей части к большей совпадает с отношением большей части к целому). На протяжении первой трети фильма мы отождествляем себя с Мэрион, воспринимаем события с ее точки зрения, и именно поэтому ее убийство обескураживает нас, выбивая у нас почву из-под ног, – до самого конца фильма мы ищем новой опоры, склоняясь к точке зрения детектива Арбогаста, Сэма и Лайлы… Но все эти вторичные идентификации являются «пустыми» или, точнее говоря, дополнительными: в них мы отождествляем себя не с субъектами, но с безжизненной и вялой машиной расследования, на которую мы полагаемся в стремлении раскрыть тайну Нормана, «героя», который заменяет Мэрион в центральный момент фильма и господствует в его последней части: в известном смысле Норман есть не кто иной, как ее зеркальное отражение (что выражается в самом зеркальном соотношении их имен: Мэрион (Марион) – Норман). Словом, после убийства Мэрион становится невозможной идентификация с личностью, господствующей в диегетическом пространстве[76 - Робин Вуд отчетливо сформулировал эту смену модальности, но он по-прежнему придерживается точки зрения субъективации; по этой причине он вынужден воспринять смену модальности просто как слабость фильма, т. е. как ляпсус, «компромисс», заключенный со стандартной формулой расследования тайн в детективных повествованиях, поэтому от него ускользает структурная невозможность идентификации с Норманом. См.: Wood R. Hitchcock’s Films. New York: A. S. Barnes, 1977. P. 110–111.]. Откуда возникает эта невозможность идентификации? Иными словами, в чем состоит смена модальности, вызванная переходом от Мэрион к Норману? Совершенно очевидно, что мир Мэрион – это мир современной американской повседневной жизни, тогда как мир Нормана – его ночная изнанка:
Автомобиль, мотель, полицейский, дорога, офис, деньги, детектив и т. д. – вот знаки настоящего, реальной позитивности и самоотречения; вилла (= замок с призраками), чучела животных, мумия, лестницы, нож, фальшивая одежда – таковы знаки из арсенала ужасающих образов запретного прошлого. И только диалог между этими двумя знаковыми системами, их взаимоотношения, вызванные не аналогиями, но противоречиями, создают визуальное напряжение этого триллера[77 - Seesslen G. Kino der Angst. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1980. S. 173.].
Поэтому мы далеки от обычного хичкоковского выворачивания наизнанку идиллической повседневной жизни: подорванной и буквально вывернутой наизнанку «поверхностью» в «Психо» оказывается не идиллический образ, какой мы встречаем в самом начале «Окна во двор» или «Неприятностей с Гарри», но мрачное и серое «свинцовое время», полное «банальных» забот и тревог. Это американское отчуждение (финансовая нестабильность, страх перед полицией, отчаянная погоня за своей крупицей счастья – словом, истерия повседневной капиталистической жизни) противопоставляется его психотической изнанке: кошмарному миру патологических преступлений.
Отношения между двумя этими мирами ускользают от простой оппозиции между поверхностью и глубиной, между реальностью и фантазией и т. д. – единственная подходящая здесь топология – топология двух поверхностей ленты Мебиуса: если мы продвинемся по одной ее поверхности достаточно далеко, то внезапно окажемся с ее изнанки. Этот момент перехода от одной стороны поверхности к ее изнанке, из регистра истерического желания в регистр психотического влечения можно обозначить с большой точностью: постепенный переход после убийства Мэрион от крупного плана водостока, куда стекают вода и кровь, к крупному плану ее мертвого глаза. Здесь спираль сначала входит в водосток, а затем выходит из глаза[78 - На эту важную деталь указал Робин Вуд: Wood R. Op. cit. P. 112.], как будто проходя через нулевую точку затмения времени или, говоря словами Гегеля, «ночи мира», – в терминах научной фантастики можно сказать, что мы «проходим сквозь врата времени» и входим в другую временную модальность. Суть здесь открывается благодаря сравнению с «Головокружением»: в «Психо» мы попадаем как раз в ту бездну, которая притягивает Скотти из «Головокружения», но Скотти все-таки может ей противостоять.
В результате двум поверхностям этой ленты Мебиуса нетрудно дать лакановские названия, предложив элементарную формулу, регулирующую вселенную Мэрион и Нормана:
Мэрион находится под знаком Отца – то есть символического желания, образованного Именем Отца; Норман же оказался в ловушке желания матери, еще не подпавшего под действие отцовского Закона (это желание как таковое – еще не желание stricto sensu, но скорее досимволическое влечение): истерическая женская позиция обращается к Имени Отца, тогда как психотик склоняется к желанию матери. Короче говоря, в переходе от Мэрион к Норману запечатлена «регрессия» от регистра желания к регистру влечения. В чем же состоит противоположность между ними?
Желание – это метонимическое скольжение, вызванное нехваткой и стремящееся ухватить ускользающую приманку: оно всегда – по определению – остается «неудовлетворенным», подверженным всевозможным интерпретациям, так как в конечном итоге оно совпадает с собственной интерпретацией. Желание – это не что иное, как движение интерпретации, переход от одного означающего к другому, бесконечное производство новых означающих, которые ретроактивно наполняют смыслом предшествующую цепь. В противоположность таким поискам утраченного объекта, который всегда остается «где-нибудь еще», влечение в каком-то смысле всегда/уже удовлетворено: содержащееся в собственном замкнутом кругу, оно – по выражению Лакана – «окружает» свой объект и находит удовлетворение в собственном пульсировании, в постоянной неспособности добиться объекта. Именно в этом смысле влечение – в отличие от символического желания – относится к сфере Реального-Невозможного, определяемого Лаканом как то, что «всегда возвращается на свое место». И именно по этой причине идентификация с ним невозможна: с другим можно идентифицироваться лишь в качестве желающего субъекта; такая идентификация даже лежит в основе желания, которое, согласно Лакану, по определению является «желанием Другого», то есть интерсубъективным и опосредованным другим, в отличие от «аутического» влечения, замкнутого на самое себя.
Стало быть, Норман ускользает от идентификации постольку, поскольку он остается пленником психотического влечения, поскольку ему отказано в доступе к желанию: чего ему недостает, так это осуществления «изначальной метафоры», посредством которой символический Другой (структурный Закон, воплощенный в Имени Отца) замещает jouissance – замкнутый круг влечения. Основная задача закона состоит в ограничении желания – не собственного желания субъекта, но желания его Материнского Другого. Поэтому Норман Бейтс – это своего рода анти-Эдип avant la lettre, уже являет собой то, что потом будет названо анти-Эдипом: его желание отчуждено в материнском Другом, подчинено произволу жестоких капризов этого Другого.
Противоположностью между желанием и влечением определяется контрастная символическая экономия в двух выдающихся сценах убийства из «Психо»: в убийстве Мэрион под душем и в убийстве детектива Арбогаста на лестнице. Сцена убийства в душе всегда была pi?ce de rеsistance, лакомым куском, для интерпретаторов, и ее притягательная сила отвлекала внимание от второго убийства, поистине травматического момента фильма, – хрестоматийный пример того, что Фрейд называл «смещением». Насильственная смерть Мэрион оказывается полной неожиданностью, шоком, не имеющим ни малейшего основания в повествовательной линии и резко обрывающим ее «нормальное» развертывание; она снята очень «кинематографично», и ее воздействие объясняется монтажом: не видно ни убийцы, ни всего тела Мэрион; сам акт убийства «расчленен» на множество обрывочных крупных планов, следующих друг за другом в бешеном ритме (поднимающаяся темная рука; лезвие ножа рядом с животом; крик открытого рта…), – как если бы многочисленные удары ножа испортили саму катушку с фильмом и вызвали разрыв непрерывного кинематографического взгляда (или, скорее, наоборот, как если бы убийственная тень в диегетическом пространстве дублировала способность к самомонтажу…).
Как же тогда преодолеть это потрясение от вторжения Реального? Хичкок нашел решение: ему удалось усилить эффект, представив второе убийство как нечто ожидаемое, – ритм этой сцены спокоен и непрерывен, преобладают общие планы, все, что предшествует акту убийства, как будто возвещает о нем: когда Арбогаст входит в «дом матери», останавливается у нижней ступени пустой лестницы – основополагающий хичкоковский лейтмотив – и бросает пытливый взгляд вверх, мы сразу же узнаем, что «в воздухе что-то нависло»; когда же через несколько секунд – пока Арбогаст поднимается по лестнице – мы видим крупным планом щель в двери второго этажа, то наше предчувствие только подтверждается. Затем следует знаменитый план, снятый с верхней точки, позволяющий нам увидеть – если можно так выразиться, геометрический – нижний план всей сцены, словно для того, чтобы подготовить нас к тому, что произойдет в конечном итоге, – к появлению фигуры «матери», которая заколет Арбогаста… Урок этой сцены убийства заключается в том, что мы переживаем сильнейшее потрясение, когда оказываемся свидетелями точного осуществления того, чего с нетерпением ожидали, словно в этот момент tyche и automaton парадоксальным образом совпали между собой: самое ужасное вторжение tyche, полностью нарушающее символическую структуру – бесперебойную работу automaton, – происходит тогда, когда структурная необходимость просто осуществляется со слепым автоматизмом.
Этот парадокс напоминает один знаменитый софизм, который доказывает невозможность чего-то неожиданного: ученики некоего класса знают, что через несколько дней им придется писать контрольную работу, – как же учитель сможет застать их врасплох? Ученики рассуждают так: пятница, последний день, исключается, так как в четверг вечером каждый будет знать, что контрольная состоится на следующий день, так что неожиданности не будет; четверг также исключается, так как в среду вечером каждый будет знать, что, поскольку пятница уже исключена, единственным возможным днем окажется четверг, и т. д. И вот: Лакан называет Реальным как раз тот факт, что – вопреки неопровержимой точности этого рассуждения – любой день, кроме пятницы, все-таки окажется неожиданностью.
Таким образом, вопреки своей внешней простоте убийство Арбогаста основывается на утонченной диалектике ожидаемого и неожиданного – словом, (зрительского) желания: единственным способом объяснить эту парадоксальную экономию, где величайшее удивление вызывается именно исполнением наших ожиданий, будет согласиться с гипотезой о субъекте, расщепленном желанием, – о субъекте, чье ожидание нагружено желанием. Мы имеем здесь, разумеется, логику такой фетишистской расщепленности: «Я прекрасно знаю, что событие X будет иметь место (что Арбогаст будет убит), и все-таки до конца в это не верю (поэтому, несмотря ни на что, я удивлен, когда убийство действительно происходит)». Где же здесь на самом деле находится желание – в знании или в вере?
В противоположность очевидному ответу (в вере – «Я знаю, что X будет иметь место, но отказываюсь верить, так как это идет наперекор моему желанию…»), ответ Лакана здесь совершенно недвусмыслен: в желании. Устрашающая реальность, в которую мы отказываемся «поверить» и которую отказываемся принять, интегрировать в свою символическую вселенную, есть не что иное, как Реальное чьего-либо желания, а подсознательная вера (в то, что X на самом деле случиться не может) является в конечном счете защитой от Реального желания: в качестве зрителей «Психо» мы желаем смерти Арбогаста, и функция нашей веры в то, что на Арбогаста не нападет фигура «матери», заключается как раз в том, чтобы помочь нам избежать конфронтации с Реальным нашего желания[79 - Хичкок отталкивался от аналогичной диалектики ожидаемого/неожиданного уже в «Саботаже»; см. Dolar M. The Spectator Who Knew Too Much // Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). London: Verso, 1992 (изд. на рус. яз.: Долар М. Зритель, который слишком много знал // Все, что вы хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока). М.: Логос, 2004. С. 123–131. – Примеч. ред.).]. А то, что Фрейд называет «влечением» – в противоположность желанию, природа которого по определению расщеплена, – возможно, как раз и есть другое название для абсолютной «замкнутости», когда то, что происходит на самом деле, в точности соответствует тому, что произойдет в соответствии с нашим точным знанием…
Перевернутый Аристофан
В фильме «Психо» следует обратить внимание именно на то, что оппозиция между желанием и влечением – далеко не просто абстрактная пара понятий: в нее вложено определяющее историческое противоречие, на которое указывает разная обстановка двух убийств, соотносящаяся с тем, как Норман разрывается между двумя местами действия. То есть места действия двух убийств никоим образом не являются архитектурно нейтральными: первое происходит в мотеле, воплощающем безликую американскую современность, тогда как второе – в готическом доме, воплощающем американскую традицию, – не случайно оба эти мотива преследовали воображение Эдварда Хоппера, са?мого американского живописца, в картинах «Мотель на Западе» и «Дом у железной дороги», например (согласно исследованию Ребелло «Альфред Хичкок и съемки “Психо”», «Дом у железной дороги» фактически послужил прототипом для «дома матери»).



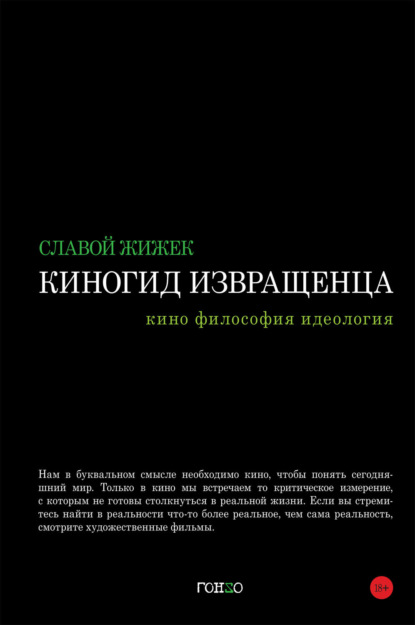




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0