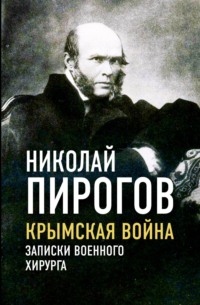
Крымская война. Записки военного хирурга

Николай Пирогов
Крымская война. Записки военного хирурга
Под редакцией Елизаветы Бута

© ООО «Издательство Родина», 2023
Вместо предисловия
Воспоминания о сражениях в Крыму, на Кавказе, Курилах и Камчатке сохранились в письмах очевидцев
Из переписки Константина Николаевича и его помощника Головнина, 15 сентября 1854.
«Не говори никому ни слова, это строго запрещено. Известия самые плохие. Войска дрались самым страмовским образом, бежали, не выдержав и первого натиска… Можно ожидать самого ужасного. Завтра будет еще фельдъегерь. Что-то он мне привезет? Сделай одолжение – молчи!»
Из письма младшего брата Михаила – Константину Николаевичу, 16 сентября 1854.
«Меншиков говорит, что будет отчаянно защищать Севастополь, город и гавань, в чем флот как неминуемая жертва – его слова – будет также участвовать… Фельдъегерь говорит, что войско в отличном духе и как будто отлично дралось??? Потери нижних чинов – около 4 тысяч… Папа позволил говорить, что после канонады Меншиков принужден был перед превосходною силой отступить к Севастополю. И только. Прощай! Михаил».
Из письма Петра Лесли, 30 июня 1855.
«Нахимов взошел на барбет, хотя его предупреждали, но он, как и постоянно, не поберег себя, высунув из-за мешков голову. Несколько пуль просвистало мимо, но он продолжал смотреть, и какая-то проклятая ударила его в голову. Павел Степанович упал навзничь. Кровь из раны струилась, я схватил носовой платок и перевязал ему голову… Его отвезли домой. Доктора увидели, что череп вдался до мозга. Страдание было очень сильно.
Можете себе представить все наше горе. Он один только и остался, кто заботился о нас и поддерживал дух. Матросы жалеют его, как отца родного, все свое довольствие он раздавал им. Малахов курган – проклятое место, где были убиты и Корнилов, и Истомин. Мы лишились всех трех самых славных адмиралов, на которых имели огромную надежду… Сию секунду прислали сказать, что Павел Степанович умер… Тоска страшная. До свидания. Благословите!»
Воспоминания сержанта королевских стрелков Тимоти Говинга о битве при Альме, 1854.
«После сражения, когда множество церковных колоколов в старой Англии звонило и оповещало всех о победе, мы подсчитывали наши потери. Увы, мы заплатили высокую цену за лидирующие позиции. Мы оставили на поле боя раненными и убитыми половину солдат, которые участвовали в сражении».
Воспоминания сержанта королевских стрелков Тимоти Говинга о битве при Балаклаве, 1854.
«Приказ командования был понят неправильно, и шестьсот благородных воинов погибли в долине смерти! Бедный капитан Нолан был первым, кто пал в этом бою. Вскоре поле было усыпано мертвыми и ранеными. Это было страшное зрелище, быть простым свидетелем, не в силах им помочь. Капитан Нолан и вся бригада будут жить в истории».
Воспоминания сержанта королевских стрелков Тимоти Говинга о военных действиях по Севастополем, 1855.
«В настоящее время жестокие столкновения происходят почти каждый день или ночь. Мы начинаем постепенно продвигаться к городу, отвоевывая то тут то там немного территории, стороны постоянно обмениваются выстрелами».
Спустя несколько дней.
«Бедные ребята, они храбро защищали свою страну, но сейчас они брошены умирать в муках, без какого-либо надзора, они лежат в крови посреди разрушенной крепости. Они хорошо служили царю, но сейчас лежат и буквально утопают в крови. Многие из них просили помощи, другие были без ума от боли и ужасных условий, в которых они находились. Наши люди делали всё возможное, чтобы спасти тех, в ком была хотя бы искра жизни. Да, они пытались спасти тех самых людей, которых всего несколько часов назад пытались уничтожить».
Из записки главнокомандующему Горчакову.
«Присланные Ее Императорским Высочеством Еленой Павловной Крестовоздвиженские сестры подвизались в госпиталях и перевязочных пунктах Севастополя под огнем огромной неприятельской артиллерии. Ее Высочеству благоугодно было поручить их мне. Но что мог я сделать против угрожающих им ежеминутно смерти и увечья, холеры и тифа. Победив в себе чувство врожденной женской стыдливости, что выше презрения к смерти… держали в руке холодеющую руку, принимали последний вздох страдальца без различия русского или неприятеля. Какая пища для пера поэта, на которого падет счастливый жребий написать поэму «Севастополиада»… Среди них – сестры хороших фамилий и очень образованные: Бакунина – дочь покойного сенатора, Ушакова, Мещерская, баронесса Будберг… Еще замечательная личность из Москвы, из плебейского сословия, под именем Параша – доброта и усердие, храбрость и презрение к смерти баснословные. Солдаты чрезвычайно ее любили. Параша была высокого роста и очень толста, большая цель для выстрела. Французы и англичане, видя ее каждый день на бастионах, к чести их, ее щадили и в нее не стреляли… К сожалению, бомба разорвала ее в мелкие куски».
Из воспоминаний майора Курпикова.
«Как очевидец этого дела, я сохраню на всю жизнь мою впечатление, вынесенное мною в те страшные минуты. Из оставшихся после такого погрома между нами немало нашлось лиц, чьи шинели стали истинным подобием решета. Кто не вспомнит о геройском поступке знаменного унтер-офицера 1-го батальона Зинченко, который спас свое знамя и вместе с тем жизнь командующему батальоном Петру Картамышеву, в минуту налетевшего на него врага. Кому не воскресит память поступок юнкера Ескова 5-й роты, решившегося принести в Севастополь тело убитого своего ротного командира штабс-капитана Клейменова, но вместе с телом погибшего от смертельной пули, и потрясающий подвиг стрелка батальона, рядового Поленова, который, истощив в борьбе с неприятелем последние силы, чтобы не отдаться в плен, бросился с крутой скалы и разбился, – и много других примеров, которые свидетельствуют о храбрости всех чинов в этом несчастном деле».
Из письма врача Николая Пирогова жене, 1855.
«Здесь в Севастополе дела вперед не подвигаются, все то же и то же; всякий день раненых и убитых понемногу, ночью вылазки с нашей стороны, приходят в лагерь англичане и французы и передаются; говорят о том, что хотят сильно бомбардировать, говорят и о том, что ждут десанта, говорят и о зимовке; но все одни слухи – так же, как и в Петербурге.
В последние два дня мало стреляли; неприятель ведет мины у одной батареи, чтобы взорвать ров, наши ведут контр-мину; недавно они выступили, чтобы взять из Байдарской долины овец, и им удалось отнять до тысячи; а впрочем, все спокойно, как будто бы и ничего не бывало, и, если бы не пушечные выстрелы от времени до времени с батарей, то и забыл бы, что находишься в Севастополе.
Не знаю, долго ли продолжится такая зима, но если долго, то это, может быть, окажет какое-нибудь влияние. Штурмовать они покуда не сунутся, десант теперь тоже труден, и так вероятнее, что они останутся зимовать; хорошо укрепившись в Балаклаве, им нечего бояться».
Севастопольские письма
Письма к К. К. Зейдлицу
Карл Карлович Зейдлиц (1798–1885) – доктор медицины, профессор; биограф и друг поэта В. А. Жуковского; действительный статский советник. Был другом Н. Пирогова. Стал инициатором его приглашения в Крым.
Севастополь, 16-го, 17-го и 19-го марта 1855 г.
Aequinoctium russum1.
Христос воскресе!
Любезный друг!
Благодарю, что вы меня не забыли. Не даром нам здесь, по высочайшему повелению, засчитывают месяц за год службы. Если уже в обыкновенной жизни, в течение суток, человек может преспокойно умереть каждую минуту, т. е. 1440 раз, то возможность умереть возрастает здесь, по крайней мере, до 36400 раз в сутки2[…].
Я более трех недель был болен совершенно так, как в Петербурге в 1842 г.; но так как я теперь опытнее стал и лучше узнал свою натуру, то я уже до того дошел, что теперь могу выходить. Гретые морские ванны и постепенный переход от них к холодным обливаниям удивительно хорошо подействовали на меня. Я теперь опять обливаюсь, как я это в Петербурге делал в течение нескольких лет, из ушата холодною морскою водою и чувствую себя опять здоровым. Прежнее беспокойство, боязнь смерти, я не испытывал и был спокоен и резигнирован (Покорен [судьбе]) во время моей болезни […]. Но довольно о моем ничтожном я.
Общее несчастье и горе важнее этого. Кровь, грязь и сукровица, в- которых я ежедневно вращаюсь, давно уже перестали действовать на меня; но вот что печалит меня, – что я, несмотря на все мои старания и самоотвержение, не вижу утешительных результатов, хотя я моим младшим товарищам по науке, которые еще более меня упали духом, беспрестанно твержу, чтобы они бодрились и надеялись на лучшие времена и результаты. Один из них, дельный, честный и откровенный юноша, уже хотел закрыть свой ампутационный ящик и бросить его в бухту.
– Потерпите, любезный друг, – сказал я ему, – будет лучше.
Между тем уже наступило весеннее равноденствие! Я ваши два письма читал во время моей болезни, а то, не прогневайтесь, они остались бы нечитанными, и я приберег бы их до своего возвращения. Читал я и вашу критику моих взглядов, не без улыбки, а также и ваше мнение о происхождении чумы. Мое убеждение об определенном, неизбежном отношении смертности в каждой болезни и в каждой значительной хирургической операции так глубоко коренится во мне, что никакая, хотя бы и от друга происходящая критика не в состоянии поколебать его.
Я утверждаю, что ни в одной болезни, за исключением перемежающейся лихорадки, если она достигла повальных размеров и господствует эпидемически, какое бы то ни было лечение, даже придворно-атомистическое, не могло бы значительно изменить процент смертельных исходов. Холера, тиф, воспаление легких, эпидемический скорбут, кровавый понос – до очевидности подтверждают это. Совершенно то же самое наблюдал я и при каждой значительной, опасной операции, если она в массах или эпидемически, как это бывает в военное время, повторяется.
Пребывание мое в Севастополе еще более утвердило во мне это убеждение. То, что я в течение пятнадцати лет наблюдал в петербургских госпиталях, то же, но в более грандиозных размерах, повторяется и здесь. Можно подметить отдельные колебания, которые легко объясняются; но в общем то, что в Петербурге давало смертность трех из пяти, и здесь дает три с половиной и три четверти из пяти. Приводимое вами против меня популярное мнение, что хорошее лечение дает лучшие результаты плохого, только для отдельных случаев справедливо, и те должны подлежать беспристрастным разбору и оценке. По слухам, А. Мейер счастливый литотомист. Б. Мейер удачно оперирует бельмо, В. Мейер отлично срезывает и спиливает ноги.
Но мы знаем, что существуют и лживые трубачи прославления.
Зейдлиц жил тогда в своем имении близ Юрьева и писал Пирогову:
«Моему дорогому другу и соратнику на зеленом поле Конференции СПб. Медико-хирургической академии профессору Пирогову.
Вас менее удивит, что я при настоящих своих занятиях сельским хозяйством прочитал вашу хирургию, нежели то, что берусь за перо, чтобы с вами кое о чем поспорить. Само собою разумеется, что мне и в голову не могла прийти мысль осуждать или критиковать вашу хирургическую богатую опытность и сделанные из нее выводы. Я желаю с вами обсудить только некоторые общенаучные положения, которые вы, как мне кажется, в ущерб себе самому и нашей благородной науке и особенно практической медицине с какою-то математическою уверенностью отстаиваете. Вы сами сознавались, что и теперь способны колебаться в своих убеждениях – и не перестанете их подвергать строгой поверке, дабы там, где это окажется необходимым, заменить их более верными данными… В 3-м выпуске вашей «Хирургической клиники», на 2-й странице, вы высказываете убеждение, «что во всякой болезни и во всякой операции существуют постоянные незыблемые отношения в неудаче и смертельном исходе их». Это справедливо, если при этом имеется в виду известная отдельная болезнь или операция, но две различные между собой болезни или хирургические операции, при одинаковой внешней обстановке, непременно покажут, что они, именно потому, что они не одни и те же, могут иметь неодинаковые исход и окончание. Наблюдая целый ряд болезней и хирургических операций, мы усмотрим известный процент неудач и смертельных исходов, который выразится арифметическим числом, по вашему мнению и этим выразится их особенность, так сказать их натура.
Но вы сами опровергаете это положение следующими затем словами: «Эти отношения находятся в зависимости от постоянных влияний внешних условий на различные болезненные процессы, от индивидуальности больного и от вида травматического поранения, неизбежного при каждой операции». Эти три внешние фактора (в патологии приводится их более) между собой различны во времени и пространстве и поэтому являются главными причинами того, что известные болезни и хирургические операции в разное время и в разных местностях относительно неудачи или смертельного исхода не одинаково протекают, а следовательно, и не дают постоянных статистических результатов. Я с намерением употребил выражение «статистических», потому что введение ваше, очевидно, стремится к тому, чтобы доказать, что полученные в массе статистические результаты дают самое верное понятие о натуре болезни и об оценке способа лечения…»
Убедитесь сами, а главное, считайте на бумаге, не надейтесь на свою память, сравнивайте успехи счастливых и несчастливых врачей, если возможно при равной обстановке, и потом уже оценивайте результаты. Отбросьте бабьи толки, департаментские отчеты, хвастливые рассказы энтузиастов, шарлатанов и слепорожденных, – спокойно следите за судьбою раненых, с пером в руках из операционной комнаты в больничную палату, из палаты в гангренозное отделение, а оттуда в покойницкую – это единственный путь к истине; но путь не легкий, особенно если наблюдатель пристрастился к известной операции или если другой оперирующий коллега непременно хочет быть счастливым, а еще хуже, если он обязан официально донести департаменту об успехах своих действий; тогда боже упаси от правдивых статистических расчетов, они тогда не безопасны для существования хирурга.
Об этом можно еще много толковать. Я, может быть, если останусь жив, да отслужу свои тридцать лет, – не забудьте, что нам считается месяц за год службы, – соберу результаты моих статистических наблюдений об ампутациях и обнародую их.
Ампутация, как одна из грубейших больших операций, доказывающая несовершенство искусства, именно ясно доказывает, что потеря каждого члена нашего тела имеет свой постоянный фатальный процент смертности. О некоторых других значительных хирургических операциях еще можно утверждать, что известными приемами, которыми обладают только знаменитые хирурги, оперированные ими ограждаются от большей смертности. Можно, например, допустить при камнесечении, что лучший успех этой операции зависит от ловкости, с которой оператор захватывает, и легкости, с которой извлекает мочевой камень; а о вашем эстонском Буяльском3можно тоже сказать, что он вылущивал шулята с особенною ловкостью и возможно меньшим растяжением семенных канатиков и т. п.
Но при ампутациях, если не допускать со старыми бабами легкую и тяжелую руку, нельзя допустить прямого влияния на успех операции ни ловкости оператора, ни даже особых искусных приемов, которыми он владеет. Скорость, с которою совершается ампутация, как известно, тоже не влияет на успех этой операции. Оперативные приемы при ампутациях так просты, что их можно бы с закрытыми глазами исполнить. Если нож остер, пила хорошо зазубрена, мягкие части отрезаны чисто и при том так, что покрывают кость, если, наконец, все кровоточащие сосуды, хорошо перевязаны, то ампутация lege artis4совершилась. Так делается это ежедневно; мы видим, все идет, как по маслу.
На моих глазах здесь тринадцать или четырнадцать врачей оперируют, не считая самого себя; все они оперируют хорошо; ампутированные пользовались в пяти различных госпиталях, и я предоставлял каждому врачу вести последовательное лечение по своему усмотрению, если оно только сколько-нибудь казалось целесообразным; да я многих и сам пользовал, и все-таки результаты до сих пор остаются одни и те же; то же самое было в Симферополе, Карасубаваре и в других госпиталях. Кто по своей натуре предназначен к дурному результату, дает его с ужасающим фатализмом, и дает его, «хотя из кожи вон полезай»
Администрация госпиталя еще имеет известное влияние на успех ампутации, но и то только в некоторой степени. Хороший воздух, опрятность, питательная пища влияют, конечно, на успех операции; но и чистый воздух не везде одинаковый. Есть госпитальная зловредная конституция, о которой я давно уже проповедую, которую не исправляют ни доступ чистого воздуха, ни целесообразное распределение больных, ни хорошая пища; причина ее кроется, вероятно, в почве, на которой выстроен госпиталь, или в стенах его, наконец, не знаю, где. Есть больные и довольно многочисленные, на которых более чистый воздух, повидимому, вредно влияет.
Сотни раз случалось здесь, что когда оперированного или раненого из гангренозного отделения, где воздух до головокружения испорчен и заражен дурными испарениями, после того, как у него рана совершенно очистилась и приняла хороший вид, переводили в чистую палату, то уже через несколько дней очистившаяся поверхность раны опять получала дурной вид, и что больные сами убедительно просят, чтобы их опять вернули в гангренозное отделение. Позволительно ли природе так подшучивать над нами, бедными художниками?
Тем не менее, это факт. Если все это сопоставить, хорошее и дурное, и где же можно тут ожидать много хорошего, – я говорю о том, что есть, а не о том, что могло бы быть, – то выйдет старая песня: что по своей натуре предназначено к дурным результатам, дает их, конечно, при нынешнем несовершенстве нашего искусства.
Со временем, может быть, все будет лучше. Сила изобретательного случая велика; может быть, со временем изобретут паровую машину, посредством которой раны ампутированных будут залечиваться первым натяжением в 24 часа; может быть, со временем заменят ампутацию чем-нибудь более разумным; может быть, в будущем вовсе не будут нуждаться во врачах; тогда, вероятно, и процент смертности изменится; возможно, наконец, – что совсем не будут умирать, чем, естественно, отношение смертности сведется к нулю. Мы, вероятно, не доживем до этой прекрасной будущности.
В настоящее время раны в Севастополе так же мало заживают per primam5, как в Петербурге; я можем здесь повторить наивный ответ ординатора Обуховокой больницы, доктора Шклярского, данный им на мой вопрос, как вы исцеляете в Обуховской больнице раны ампутированных, per primam, vel secundum intentionem6, ответил: «мы лечим их per tertiam! т. е. per gangraenam»7.
Если смотреть на это дело не близорукими глазами клинициста маленького университетского городка или без поползновения на хвастовство, особенно же если не составляется ответ «по казенной надобности» и по указаниям славолюбивого начальника, то выходят совсем другие вещи. Но довольно об этом. Вы знаете, почтенный друг, что заслуженные профессора СПб. Медико-хирургической академии крепко держатся своих убеждений, если у них вообще существуют таковые.
Теперь обращаюсь к вашим собственным взглядам. Я, право, не знаю, ожидает ли нас весною карбункулезная чума или нечто столь же безотрадное; я только знаю, что существует достаточно условий для развития страшной эпидемии. Тиф уже свирепствует, как здесь, так и в Симферополе.
– Не настоящий, – сказал мне один врач из штаба князя Горчакова.
– Но хотя и не от настоящего, а умирают, – ответил я ему, – да кроме госпитальных больных, большею частью врачи и сестры милосердия.
Из двадцати сестер в Симферополе шесть умерло. Врачи беспрестанно заболевают и умирают; из шестнадцати, которые здесь в Севастополе под моим руководством работали, семь заболели тифом, а из восемнадцати сестер здесь семь заболели и уже две умерли.
Если вспомнить, что зимою, по всей дороге из Севастополя до Бахчисарая, на протяжении шестидесяти верст валялись сотнями гниющие трупы павших лошадей и волов, которых, конечно, никто не зарывал, а также множество человеческих трупов, весьма поверхностно похороненных по недостатку медико-полицейского контроля и по каменистой твердости грунта; прибавьте к этому изнурение людей от беспрестанных крепостных работ, проводивших зиму в грязи, в убогих землянках, а также, что скорбут здесь почти всякую весну появляется и что уже теперь показываются больные с цынготным диатезом; что наши госпитали все переполнены и помещаются в старых, полуразрушенных или казематированных казармах, где весьма трудно очищать воздух; что недостает белья и тюфяков, и что нет ни сена, ни соломы для набивки тюфяков – то имеется достаточно поводов опасаться развития злокачественной эпидемии под влиянием предстоящих жаров.
К этому надо прибавить еще господствующую эпидемическую болезненную конституцию, порождающую знаменитые крымские лихорадки и смрадные испарения, подымающиеся из неприятельского лагеря.
При всем этом в наших госпиталях теперь гораздо лучше, чем было в ноябре прошлого года. О той грязи, о том несчастном положении, в котором с октября по декабрь валялись наши больные и раненые, невозможно себе составить понятия тому, кто не видал этого собственными глазами. Но постойте, сейчас начали сильно бомбардировать и кричать, что один из домов, в котором лежат наши больные, от бомбы загорелся!
Наступила ночь. Теперь девять часов. Сегодня назначены три вылазки, и нам опять принесут несколько сот раненых. Прощайте, до свидания. До завтрашнего утра.
Много шуму из пустяков! Во время ночной бомбардировки неприятель бросил несколько тысяч снарядов в город. Несколько сот из них лопнули перед нашими глазами в бухте. Зажгли дом в нашем соседстве, так что я уже уложил свои пожитки и перебрался в Николаевскую батарею, где для нас приготовлен был небольшой блиндированный каземат. Между тем, за исключением единственного пожара, бомбы нам не причинили никакого вреда. Многие из них лопались в бухте или в воздухе; вообще, бомбы мне кажутся весьма неверным разрушительным средством.
Несколько дней тому назад союзная армия бросила около двух тысяч бомб в четвертый или пятый редут, и эти две тысячи снарядов ранили только шестьдесят человек и убили около двадцати. Хотя по нашим мирным понятиям человеческая жизнь неоценима, но здесь все-таки думают, что ничтожное действие не стоило труда и затраты. Весь этот ночной шум должен был служить отвлечением.
Мы выстроили редут у Малахова кургана, который угрожает близкой неприятельской батарее. Союзники хотят во что бы то ни стало уничтожить этот редут и хотели его штурмовать эту ночь. Наши же в ту же ночь хотели проникнуть в шанцы и траншеи неприятельские, которые лежат непосредственно впереди нашего редута, чтобы их уничтожить. Союзники для отвлечения устроили усиленную бомбардировку, наши же – вылазку. Последствием этого было разрушение трех неприятельских шанцев, а редут остался в наших руках. Вся окрестность редута была наполнена телами убитых. У нас было 400 убитых и 1800 раненых. Вся эта масса раненых еще в ту же ночь и на другой день была размещена в различных амбулансах в городе.
И мы работали два дня, пока удалось почти всем доставить необходимую помощь; но даже теперь, шесть дней после сражения, мы находим раненых, которым еще не успели подать существенную хирургическую помощь.
На мою долю досталось шестьсот раненых. Посредством особенного способа, который я уже неоднократно испытал в подобных случаях, мне удалось в полтора дня справиться с главнейшими хирургическими пособиями. Способ этот состоит в следующем. В моем распоряжении находятся десять врачей; я ими управляю деспотически, но, смею думать, справедливо. Я распределяю обязанности этих врачей таким образом, что двое или трое из них, по очереди меняясь с другими, должны сортировать вновь прибывших раненых8.
Складочное место9для этого необходимо. Тут сначала выделяются отчаянные и безнадежные случаи10, которые легко диагностируются; их отделяют от прочих, им дают наркотические средства, чтобы уменьшить их страдания, и тотчас переходят к раненым, подающим надежду на излечение – и на них сосредоточивают все внимание.