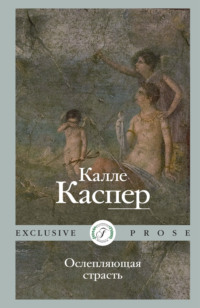
Ослепляющая страсть
Мне было неловко просить вернуть мне письма, но он сам решил эту проблему, безмолвно протянув мне всю пачку.
На следующее утро вместе с Ребеккой я пошел в поликлинику, где она взяла у меня кровь на анализ. Я уже несколько дней назад рассказал ей о своем открытии, просто был не в силах молчать.
– Надеюсь, что в больнице, где лежала мать, сохранились ее данные, – сказал я, когда Ребекка через некоторое время вернулась.
– Это не имеет значения, – сказала она. – Все и так ясно. У этого человека первая группа, а у тебя четвертая. Такое сочетание невозможно. Ты не его сын.
Я был разочарован, поскольку уже стал привыкать к мысли, что мой отец – известный писатель, и даже прочел вчера вечером один из его романов; теперь он сразу почему-то показался мне не таким интересным, как накануне.
– Ну, по крайней мере, тайна разгадана! – улыбнулся я храбро.
Из поликлиники я пошел прямо к отцу и рассказал ему, что произошло за эти дни.
– Прости, что позволил себе сомневаться в твоем отцовстве, – закончил я. – Но тебе, надеюсь, все это пошло на пользу, может, ты теперь изменишь свое отношение к маме?
Он посмотрел на меня и вдруг гомерически расхохотался. Открыв ящик письменного стола, он вытащил какую-то коробку, оттуда – паспорт, открыл его и сунул мне под нос.
– Теперь ты поверишь, что твоя мать – шлюха?
Я заглянул в паспорт: у моего отца оказалась та же группа крови, что и у писателя.
Ребекке о беседе с отцом я не сказал; снимки мамы выкидывать не стал, но с тех пор ни разу к ним не притронулся.
Эликсир истины
Когда мне стукнуло сорок пять, давление начало прыгать. Жизнь была нервной, на работе приходилось постоянно отбивать атаки молодых, дома хныкала жена, ипотека дамокловым мечом висела над головой: что-нибудь случится – не только лишишься крыши, но и навеки останешься должником. Наш семейный врач мне никогда не нравилась, это была молоденькая ухоженная дамочка, которой больше подошла бы работа телевизионного диктора; каждый раз, когда она затягивала на моем предплечье манжету тонометра, я смотрел на ее длинные, окрашенные в фиолетовый цвет ногти и думал: почему она не выучилась на хирурга, обошлась бы без скальпеля. На курсах, устроенных фармакологической фирмой на одном из средиземноморских островов, ей внушили, что с давлением необходимо непрестанно бороться, то есть принимать и принимать лекарства, желательно до конца жизни, и она следовала этим инструкциям со старательностью комсомолки, если кто-нибудь еще может понять смысл этого сравнения. Я спокойно выслушал ее рекомендации, поблагодарил и ушел; удалившись на сто метров от поликлиники, скомкал выписанный рецепт и бросил в мусорную урну.
В интернете нынче можно найти всё, начиная от валютных курсов и заканчивая репертуаром оперных театров Буэнос-Айреса: после некоторых поисков я наткнулся на сайт www.sharlatan.ee, обещавший избавление от всех хворей с помощью гималайских снадобий. Написав по указанному адресу, я быстро получил ответ и договорился о приеме. С работы пришлось отпроситься, потому что предстоял длинный путь, двести километров, в Южную Эстонию с ее прелестными холмами и озерками. Я боялся, что придется долго ждать в очереди, чтобы попасть к «чудолекарю», но ошибся: их время, кажется, прошло. От всего на этом хуторе – ибо именно в хуторском доме обосновался знахарь – веяло ветхостью. Двери и пол скрипели, воняло прелью, а старинные часы с кукушкой отставали на полчаса. Меня усадили на расшатанный стул и для начала велели показать язык. Показалось, что мы с доктором примерно одних лет, но он был лыс и носил длинный желтый балахон.
– Вы кришнаит? – спросил я.
Я видел людей в такой одежке, толпами бегавших по улицам Таллина и распевавших веселые мелодии.
Он пробормотал в ответ что-то нечленораздельное и велел подать банку, которую я рано утром, в соответствии с полученными указаниями, наполнил, сами понимаете чем. Исследовав мутную жидкость, знахарь щелкнул языком и подошел ко мне вплотную.
– Поднимите голову.
Одной рукой он ухватил меня за челюсть, другой за затылок и большим пальцем отогнул левое веко так, что глаз едва не выскочил из орбиты.
– Пьете? Работаете с раннего утра до полуночи? Ссоритесь с женой?
На все вопросы я ответил утвердительно.
Он довольно буркнул, отпустил мою голову и отправился в другую комнату. Мне пришлось ждать весьма долго, часы все тикали и тикали, и я подумал: «Ну и дурак, поехал черт знает куда и угробил целый день».
Наконец знахарь вернулся и принес небольшую коробку; только сейчас я заметил, что руки у него крепкие и мозолистые, как у настоящего крестьянина, да еще какого-то странного зеленовато-коричневого оттенка, словно он только и делал, что собирал растения, – и во мне проснулась надежда.
– В этой коробке – три пилюли, – объяснил знахарь. – В первое ближайшее полнолуние ночью ровно в два часа проглотите ту, которая упакована в синюю бумагу. Разумеется, без самой бумаги, ее просто выкиньте.
– А как пить, с водой или всухую?
– Можно и с водкой.
Я усердно закивал: дело начинало мне нравиться.
– Давление придет в норму примерно за неделю и продержится так минимум один год.
– А если не придет?
– Придет. Через год проблемы могут повториться, а могут и нет. Если повторятся, проглотите пилюлю в зеленой бумажке.
– А если не поможет?
– Сами видите: пилюль три.
При последних словах на его лице появилась такая странная ухмылка, что я даже вздрогнул.
Я заплатил знахарю, сел в машину и поехал домой.
Жене о своем путешествии не рассказал, боялся, что она поднимет меня на смех. Накануне полнолуния сделал вид, что завален работой, и закрылся в кабинете. Ровно в два часа развернул бумагу, принес из кухни стакан воды и проглотил пилюлю. И сразу почувствовал, как по всему телу распространяется чудная теплота, мышцы расслабляются, ноги-руки становятся тяжелыми. С большим трудом добрался до спальни, улегся и немедленно уснул. Всю ночь я видел прекрасные сны: то лазил по гималайским горам, глядя со снежных вершин вниз на беспредельную и действительно круглую землю, то плавал в незнакомом море с прозрачной соленой водой вместе с разноцветными рыбешками, чьи удивительно умные глаза внимательно следили за мной.
Утром, проснувшись, я почувствовал себя заново родившимся: голова была ясная-преясная, все заботы словно рукой сняло. Жена успела уйти на работу, сын – в школу, сам я взял еще один выходной, но вдруг понял, что валяться без дела не хочется, сел за компьютер и за несколько часов накатал годовой отчет, работу над которым до этого все откладывал и откладывал.
Я как раз закончил сей труд, как из школы вернулся сын. Отправившись на кухню, я разогрел обед и позвал его. Он пришел, сел за стол, я бросил на него взгляд – и оторопел. Я увидел вдруг все его пороки, и то, что он только что курил, и то, откуда он достал деньги на покупку сигарет – из моего кармана.
– Ты лазил в мой кошелек.
Он категорически, даже злобно отрицал, но я прекрасно видел, что он лжет.
– Я даже знаю, сколько ты брал, – сказал я, – две купюры по двадцать пять крон.
Он снова начал отрицать, но уже не так уверенно, как поначалу, и глядел на меня, словно на ясновидца, со страхом. Я остался доволен таким результатом и стал накладывать ему на тарелку еду, но тут же поймал еще один, брошенный в мою сторону взгляд, – поймал, и мною овладел ужас.
«Чтоб ты сдох», – говорил этот взгляд.
– И не надейся, – обронил я.
Он, разумеется, сделал вид, что ничего не понимает, а я не стал развивать тему; я был сыт по горло. До этого момента я считал сына, возможно, не идеальным, но все-таки терпимым потомком, таким, который слушается родителей и старается более-менее соответствовать их требованиям, а теперь обнаружил, что это только внешняя покорность, а на самом деле меня ненавидят.
Я решил, что поделюсь своим разочарованием с женой, но, как только она переступила порог и я бросил на нее один-единственный взгляд, передумал. Ее внутренний мир тоже открылся мне как на ладони, помимо прочего, я видел, что она давно мне неверна, и даже сосчитал ее любовников, их оказалось целых пять за последние три года, и одним из них был мой лучший друг.
«Ты мне изменяешь», – чуть было не ляпнул я, но в последний момент остановился.
Что бы это дало? Все равно она бы все отрицала, а у меня не было доказательств – я просто все знал и даже не мог ей объяснить, откуда, настолько это выглядело бы неправдоподобно; в конце концов, она могла меня после такого рассказа и в психушку отправить. Даже если бы мне удалось спровоцировать признание, чего бы я добился? Раскаялась бы она в своих проступках? Вряд ли…
Я промолчал и повел себя как ни в чем не бывало, по крайней мере, старался так себя вести, потому что она все-таки уловила мое странное состояние и спросила, не заболел ли я. Я наврал, что утомлен, так как работал над отчетом, и она, кажется, поверила.
Но это оказалось только началом моих страданий. На следующее утро я поехал на работу и по лицам коллег постиг все их пороки. Ни одна измена, предательство, подлость не остались втайне от меня. И это повторялось везде: в магазине, ресторане, на улице. Я ходил по городу и читал по физиономиям прохожих, кого они ненавидят и кому завидуют, на что готовы во имя обогащения и как часто лгут. Несколько раз я встретил убийц, самых настоящих убийц, которые вполне отдавали себе отчет в содеянном и отнюдь не жалели об этом.
К концу недели мое состояние стало невыносимым. Бремя человеческих мерзостей навалилось такой тяжестью, что, казалось, долго я не выдержу. Я был очень близок к тому, чтобы уйти из дома и уехать подальше от людей, куда-нибудь в деревню, и погрузиться в полное одиночество.
Но потом я передумал. До этого момента я жил очень трудно, работал в поте лица, чтобы содержать семью, дрожал от страха, что меня сократят – разве я не был достоин лучшей участи? Теперь, когда с тайн мира спала покрывающая их пелена, почему бы не использовать это, так сказать, эксклюзивное знание, чтобы поправить свое материальное положение?
У нашей фирмы имелись проблемы с реализацией одного вида продукции, я взял эту работу на себя и, читая мысли деловых партнеров, смог отделаться от залежавшегося на складе товара. Меня повысили в должности, и скоро я стал правой рукой директора. Весь коллектив уважал меня – уважал, потому что боялся. Мне даже не приходилось кого-то пугать, хватало намека, чтобы те, чья совесть нечиста, были мне благодарны за молчание.
Стал я смелее и с женщинами. Раньше боялся подходить к ним, потому что не понимал, нравлюсь кому-то или нет – теперь, когда я мог без труда читать в сердце каждой, легко отыскивались именно те слова, которые они хотели услышать. Я утешал замужних, предлагал небольшое приключение девушкам, мог даже подойти на улице к совершенно незнакомой женщине и позвать ее с собой – я никогда не ошибался. Однажды, когда моя жена заболела, к ней пришла наш семейный врач – закончилось тем, что я в тот же вечер соблазнил ее. Как я раньше не догадывался, что женщины столь доступны? Разводиться не стал, а снял для своих забав небольшую меблированную квартиру, я мог это себе позволить, потому что мои доходы увеличились в несколько раз. Но мне и этого было мало, я ушел с работы и основал собственную фирму. Конечно, дела сразу пошли в гору, все сделки, которые я заключал, давали хорошую прибыль, меня было невозможно провести, сам же я обводил вокруг пальца любого.
Так прошло года три, мое здоровье оставалось в порядке, все шло удачно, но со временем проницательность пошла на убыль, а давление снова заскакало. Я решил, что пора выпить вторую пилюлю, и в первое же полнолуние сделал это.
На этот раз красивых снов я не видел, наоборот, всю ночь меня мучили кошмары: за мной гнались, ловили, заключали в кандалы, били, пытали, вырывали ногти и жгли огнем. Проснулся я весь в поту, и пот этот был холодным. Я встал, подошел к зеркалу: на меня смотрел человек с безумным взглядом.
В контору я не пошел, остался на весь день дома. Я лежал в постели и размышлял, и это были грустные мысли. Все, чем я до этого момента гордился, – моя проницательность, экономический успех, победы над женщинами, – все казалось заблуждением. Я вдруг увидел в себе подонка, который для достижения эгоистических целей пользуется слабостями других. Мой сын недавно ушел из дома, он снял вместе с другом квартиру и не принимал от меня материальной помощи. «Папа, ты свел мать в могилу, я не хочу больше иметь с тобой ничего общего», – сказал он на прощание. Да, моя жена угасла как-то быстро и незаметно, я даже не успел навестить ее в больнице. Узнав про ее неверность, я словно вычеркнул ее из своей жизни, а теперь понял, что из жизни невозможно вычеркнуть ничего. Мертвая и кремированная, она тем не менее продолжала жить во мне и напоминать о тех далеких днях, когда мы еще были счастливы. Мой лучший друг вместе со своей женой недавно погиб в автомобильной аварии, это случилось через несколько недель после того, как я в отместку соблазнил его жену, и я не мог отделаться от чувства, что в произошедшем есть и моя вина.
«Опомнись, Куно, – убеждал я себя, – ты не можешь отвечать за все, что происходит с другими. Каждый в этом мире борется за себя, а кто не борется, того втопчут в грязь, как поначалу делали с тобой».
Но пилюля не давала мне успокоиться, ее сила оставалась в моем организме и заставляла страдать. На следующий день я пошел в контору, но почувствовал сразу, что не в состоянии вести дело дальше – это ведь возможно только, обманывая других, а я больше не хотел никого обманывать. Я продал фирму за гроши и стал искать работу. Меня никуда не хотели брать, наверное, мое состояние не внушало доверия. В конце концов, после долгих поисков я получил работу в одном торговом центре, где я собираю тележки и ставлю их на место.
Машину я продал, на работу начал ездить в автобусе: не хочу больше быть похожим на тех, кто думает только о собственных удобствах. Здоровье пока не подводит, но, когда давление снова поднимется, у меня уже не будет лекарства, потому что третью пилюлю я выкинул в мусорный ящик.
Замена
Случилось это той весной, когда я оканчивал университет. Был я тогда влюблен, и даже счастливо, взаимно. Не знаю, стал бы я сразу делать Майе предложение, я ценил свою мужскую свободу, но приближалась выпускная комиссия, и я боялся, что нас направят на работу в разные города. Глаза Майи увлажнились, когда я спросил, согласна ли она стать моей женой, я даже не подумал, что это может быть для нее так важно; глухим голосом она проговорила: «Да», – и уткнулась носом в мою грудь. Мы условились, что встретимся на следующий день после лекций в главном здании, «под часами», и пойдем в ЗАГС подавать заявление.
Ждать Майю пришлось довольно долго. Стрелка на старинных, с римскими цифрами часах, упорно ползла вперед, и взгляды, которые я бросал на нее, становились все более беспокойными. Неужели передумала? Так сказала бы прямо, зачем выбирать столь унизительную форму отказа? Мне хотелось сходить к телефону-автомату, чтобы позвонить – кто знает, может, заболела, лежит в общежитии с высокой температурой, но я боялся, что она придет и, не увидев меня, уйдет.
Так я мотался с полчаса взад-вперед по каменным плитам, пока не услышал за спиной звонкий голос:
– Здравствуй, Мадис!
Обернулся – передо мной стояла незнакомая девушка.
– Извини, что я опоздала, – продолжила она по-свойски, – в парикмахерской была очередь. Надеюсь, ты простишь меня.
Ничего не понимая, я промолчал.
– Честное слово, Мадис, на свадьбу явлюсь вовремя, – засмеялась девушка. – На самом деле, твоя Майя весьма точная и аккуратная девушка. Ты мне веришь?
И снова я ничего не ответил, но мысль моя в это время работала с бешеной скоростью, я пытался разобраться, что кроется за этой неожиданной подменой.
– Ну, что ты молчишь, скажи, как тебе нравится моя прическа?
В голосе незнакомки появилось нетерпение, она повернула голову с пышной светлой шевелюрой в одну, потом в другую сторону; у Майи, кстати, были темные волосы.
– Извините, я вас не знаю, – сказал я так мягко, как только умел – конечно, я мог бы выбрать и более официальный тон, но не хотел, чтобы меня посчитали мужланом – у меня уже возникла версия.
– Что с тобой, Мадис? – удивилась девушка. – Ты что, выпил? Может, устроил вчера мальчишник? Ты вообще помнишь, что сделал мне предложение?
Все это было произнесено очень даже натурально и только подтверждало мою гипотезу. Очевидно, что Майя вздумала пошутить надо мной и отправила на свидание вместо себя то ли однокурсницу, то ли просто знакомую. Однако с какой целью? Чего добивалась? Если она передумала выходить замуж, зачем так усложнять? Намного вероятнее казалось, что Майя хочет меня испытать – люблю ли я ее на самом деле, не начну ли приударять за ее подружкой?
Во мне проснулась злость, и я решил, что не позволю над собой насмехаться.
– Прости, если мой комплимент получился слишком замысловатым, – расшаркался я, – я хотел сказать, что не узнал тебя, потому что ты сегодня чересчур красивая.
– А что, обычно я некрасивая? – закокетничала девушка.
– Обычно тоже, но сегодня особенно. Действительно, мне повезло, я женюсь на самой красивой девушке в мире.
Этим ответом незнакомка явно осталась довольна.
– Ну что, пойдем тогда? – сказала она деловито.
Но я не сдвинулся с места.
– Подожди. Я хочу тебя поцеловать.
– Прямо здесь? – спросила она игриво.
– Да нет, конечно, не здесь. Пойдем ко мне.
– Сейчас?
– Да, немедленно.
«Интересно, – подумал я, – как она на это отреагирует? Нетрудно было выступать в роли Майи на людях, но пойти с ее женихом к нему домой…»
– Мы же опоздаем в ЗАГС. – Девушка начала вилять.
Этого я и ожидал.
– Ты что, забыла, я же живу рядом, в двух шагах!
– Я испорчу прическу, – попыталась она отвертеться еще разок.
– Буду осторожен.
Незнакомка заколебалась, такой поворот событий они в «сценарии» наверняка не предусмотрели.
– Или ты уже разлюбила меня? – спросил я драматическим голосом.
– Ну, хорошо, если это для тебя так важно, пойдем, – уступила она неожиданно.
Это стало для меня сюрпризом: я был уверен, что тут-то она откажется от игры, и мне удастся ее разоблачить. Неужели я произвел неотразимое впечатление? Или это вертихвостка, искательница приключений, всегда на все готовая? Вероятнее все же, что она разозлилась на Майю, поставившую ее в дурацкое положение, и решила отомстить ей; однако кто знает, так ли это, душа женщины, как говорят, потемки.
Отказаться от идеи я не мог, зашел уже слишком далеко, да и хотел ли? В этот момент меня переполнял гнев по отношению ко всему женскому полу, и я был готов на все, чтобы показать: со мной в эти игры не играют.
Кстати, я не сомневался, что в последнюю минуту девица все-таки струсит, и не поверил своим глазам, когда она спокойно взяла меня под руку и вместе со мной сперва прошла до дома, где я снимал крохотную квартирку в мансарде, а потом и вверх по лестнице…
Дальнейшее произошло молча, мы не обменялись ни единым словом.
– Мне надо идти, – сказала она, когда я утомленно опустился на простыню.
– А ЗАГС? – притворился я, что удивлен.
– Оставим на завтра.
Она встала, без слов оделась и ушла.
Я отдохнул немного, потом почувствовал голод и встал. Подумал зайти в студенческое кафе, но едва дошел до главного здания, ноги словно сами понесли меня в сторону тяжелой двери.
Майя стояла в фойе, нервная, взвинченная, на пределе.
– Куда ты делся? Я уже час жду тебя.
– Я был тут в два, но ты не пришла.
– Мы же условились в три!
Как здорово она актерствует, подумал я, но, бросив взгляд на лицо Майи, засомневался, настолько искренним было ее отчаяние.
– Ох, как хорошо, что мы наконец встретились, – продолжила она уже веселее. – Я все думала, что с тобой могло случиться. То ли попал под машину, то ли сломал себе шею. Там, где ты живешь, такая крутая лестница.
Она еще некоторое время изливала душу, говорила о страхах, которые появились у нее: что я передумал, нашел другую и не люблю ее больше. Чем дольше я ее слушал, тем больше крепла во мне мысль, что она ничего не знает о девушке, с которой я встретился.
Выговорившись, она взяла меня под руку и сказала:
– Слава богу, теперь этот кошмар позади! Пошли, а то ЗАГС закроется.
Я не сдвинулся с места, мои мысли сосредоточились на вопросе, кем же, если Майя не врет, была та – вторая девушка? И была ли она вообще, может, я увидел привидение?
Но потом я понял, что существенной разницы нет.
– Извини, я не пойду, – сказал я.
Майя застыла, в ее глазах появился неописуемый ужас.
– Почему? – прошептала она почти беззвучно.
– Не могу объяснить, – ответил я и ушел.
Было бы жестоко сказать ей, что оказалось слишком просто заменить ее на другую.
Деспот
Моя сестра Анни вскоре после окончания школы вышла замуж за человека лет на десять старше ее. Маргус мне не понравился с первого взгляда. На лице этого худого, костлявого, крепкого мужчины словно застыла мрачная маска решительности. Водку он не пил. Булгаков где-то сказал, что непьющие подозрительны, и это вполне относилось и к Маргусу. Чего он добивался, во имя чего жил? Мне казалось, что его главная цель – держать события под контролем, естественно, не в глобальном смысле, но в своем ближайшем окружении: на работе и дома. Когда мы познакомились, он был инженером на машиностроительном заводе, скоро его повысили до главного, и я не сомневаюсь, что с того дня его предприятие всегда выполняло план и не расставалось с красным флагом победителя соцсоревнования. Дома царил такой же, я бы сказал военный, порядок: обед каждый день в одно и то же время, дети пораньше – в постель, и берегись, если принесешь из школы плохую оценку – кстати, доставалось за это не виновнику, а Анни, поскольку по установленной Маргусом субординации именно она отвечала за то, что связано с домом и детьми. Несмотря на всё это, сестра не жаловалась. В школьные годы она отличалась беззаботным характером, ей ничего не стоило опоздать на урок или явиться домой с аттестатом, в котором преобладали «тройки»; когда родители сердились, она отвечала лишь:
– Хорошие оценки еще никого счастливым не сделали!
Была ли она счастлива сейчас, когда ее беззаботность бесследно исчезла, когда она стала такой же серьезной и сосредоточенной, как Маргус, – постоянно напряжена, постоянно в страхе, что совершит какую-то ошибку… Однажды я прямо спросил, неужели она довольна своим браком? Анни сделала удивленное лицо и ответила:
– О да, разумеется, ты разве сомневаешься в этом?
– Да, немного сомневаюсь, мне кажется, что Маргус – деспот.
Она на секунду задумалась, наверное, никогда этого не сознавала, но затем лукаво улыбнулась и сказала:
– Возможно, отчасти ты прав. Но мне это даже нравится. Такое хорошее чувство уверенности, что с тобой не может случиться ничего плохого, он просто не допустит этого.
– Он что, бог? – Я не удержался от сарказма.
– Ну, не знаю, бог ли… – засмеялась Анни, но по ее лицу было видно, что примерно такого мнения о своем муже она и придерживается.
Когда началась перестройка, Маргус помрачнел еще больше – а чего удивляться, его стремление «держать все под контролем» столкнулось с большими трудностями. Дома его в этот период почти не видели, он ездил по России в поисках сырья для своего завода. И, надо сказать, справлялся с проблемами: завод функционировал, рабочим регулярно платили зарплату, и Маргус даже выкинул финт, которого я от него не ожидал: словно чувствуя, что вот-вот начнется бешеная инфляция, он взял кредит в банке и за несколько месяцев построил для семьи дом на окраине Тарту, заплатив за это в итоге гроши.
Потом объявили – и признали – независимость, экономические отношения с Россией прервались, завод Маргуса уже никому не был нужен, его закрыли, и зять остался без работы. Я подумал: «Ну-ну, что ты теперь делать станешь?» Сам я незадолго до этого вступил в патриотическую партию и надеялся попасть на первых свободных выборах в парламент. Нельзя сказать, что я очень злорадствовал, меня все-таки тревожило, что будет с сестрой – помните, какое это было тяжелое время, – но, положив руку на сердце, признаюсь, ничего не имел против того, чтобы Маргус пришел ко мне с просьбой найти ему работу.
Но этого не случилось; к моему большому удивлению, он выбрался из трудностей собственными силами: освоил новую специальность, программирование, да так успешно, что нашел работу в самом логове капитализма – в банке. Помню, как он тогда был собой доволен – я имел счет в том же банке, и однажды, когда сидел и ждал своей очереди, Маргус спустился в зал, сел рядом со мной в кожаное кресло и долго болтал о том о сем, что было на него непохоже. Никогда я не видел его таким расслабленным. «Ну, теперь самое сложное позади», – сказал он на прощание и похлопал меня по спине, словно давая понять: знаю, ты никогда ко мне хорошо не относился, ну, да ладно, я на тебя не сержусь.