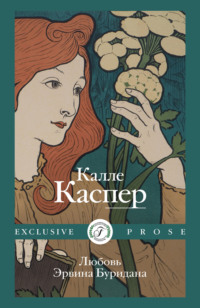
Любовь Эрвина Буридана
Положив извлеченные из «Иллюзий» деньги на стол, Эрвин потянулся за следующей книгой, Рюбампрэ был не единственным, кто охранял его имущество, часть гонораров он доверил совершенно опустившемуся типу, убийце Раскольникову; хотя в конце концов тот все-таки пожалел о содеянном и стал вроде честным человеком. Кто знает, будь у него денежки Эрвина, возможно, он и не подумал бы махать топором, закончил бы университет и стал уважаемым гражданином, например профессором юриспруденции. И не было бы у нас «Преступления и наказания»… Таким образом, в итоге то, что у Раскольникова не оказалось таких крепко стоявших на земле родителей, как у Эрвина, и его молодость прошла в бедности, обернулось-таки большой удачей.
Секунду спустя Эрвин вздрогнул – рядом с ним зазвонил телефон. Страху Раскольникова, услышавшего, будучи в квартире, где лежали два трупа, звонок в дверь, теоретически следовало бы оказаться сильнее, но Эрвин обладал особо чувствительной нервной системой, болезненно реагировавшей на малейшие раздражения. Неужели кто-то следил за ним, например соседи из квартиры напротив? При современном развитии техники этого не исключишь, в том крыле было три этажа, на первом, то есть в таком же полуподвале, жил дворник с женой, на третьем – супружеская пара глухонемых, в отношении них у Эрвина подозрений не было, но вот на втором этаже недавно поселился новый жилец.
Телефон продолжал звонить – а что, подумал Эрвин, если это Тамара, которая хочет проверить, дома ли еще Тимо? Если не брать трубку, жена может подумать, не случилось ли чего, и поспешить домой.
Он сел за стол, в кресло с дугообразной спинкой, в котором когда-то часами корпел над переводами, и взялся за эбонитовую трубку.
– Эрвин?
Низкий, немного хриплый голос Лидии был полон тоски, и Эрвин сразу почувствовал себя сильным старшим братом.
– Привет, сестричка!
Лидия стала извиняться, что побеспокоила Эрвина, тому ведь трудно добираться до телефона из другой комнаты, но Эрвин ее быстро прервал, сказав, что это вообще не проблема, и спросил, почему она не в духе.
– У Пауля начался учебный год, я позволила ему на пару дней задержаться в городе, но вчера пришлось его все-таки отправить. Если бы ты видел его лицо! Он ничего не сказал, но в его взгляде была такая печаль, что я чуть было не сказала ему: останься. Но что мне с ним здесь делать? Ты же знаешь, Эрвин, я даже с собой не справляюсь, что еще говорить о сыне.
– Успокойся, все нормализуется. У него сейчас просто самый трудный возраст.
– Умом я это понимаю, но душа сопротивляется. Эрвин, скажи, почему жизнь настолько несправедлива? Почему Густав ушел так рано?
– Лидия, ты же большая девочка, ты должна знать, что самая тяжелая судьба у тех, кто больше думает о других, чем о себе. Их ненавидят все – и те, с кем они борются, и те, во имя которых они это делают.
– Ох, Эрвин, как красиво ты умеешь утешать! Но я все про себя, совсем забыла спросить, как ты себя чувствуешь?
– Отлично. Днем читаю, слушаю радио, если хорошая погода, выхожу погулять, вечером учу Тамару юриспруденции, составляем вместе исковые заявления, типа, почему тара, отправленная Таллинскому холодильному заводу, не соответствует ГОСТу.
– Голова не болит?
– Изредка. Когда болит, принимаю лекарство.
Он знал по опыту, что о своих подозрениях не стоит говорить даже Лидии.
– Какой ты мужественный, знаю, мне бы брать пример с тебя, но я не в силах…
Они поговорили еще немного, потом Лидия заспешила: у нее была назначена лекция в Союзе художников, – и они простились. Положив трубку, Эрвин с горечью подумал, что да, сначала Лидии повезло, лет десять она была настолько счастлива, насколько это вообще дано женщине; но судьба не терпит, когда у кого-то все идет слишком хорошо, и у Лидии разом отняли все, то есть Густава, поскольку муж и был для нее всем. Натура попроще скорбела бы годик-другой, максимум три, а потом вернулась к более или менее нормальному существованию, но романтичная, всегда готовая на самопожертвование Лидия так и не оправилась от удара, когда-то она безумно влюбилась в человека на дюжину лет старше себя, который много лет провел в тюремной камере для политзаключенных, и теперь не могла смириться с мыслью, что его уже нет.
Эрвин засомневался – а имеет он право бежать, оставив сестру? Лидия была хрупким, нервным созданием; не справившись с воспитанием своего единственного сына, отправила Пауля прошлой зимой в интернат, Эрвин, даже будучи инвалидом, чувствовал себя сильнее сестры и в нормальной обстановке никогда бы ее не бросил, но сейчас, когда его, возможно, медленно убивали, он просто не видел другого выхода. Он обещал себе, что, доехав до пункта назначения, сразу напишет Лидии, он не сомневался, что сестра не выдаст его.
Приняв решение, Эрвин успокоился. Наконец, последнее. Его охватила нервная дрожь – на месте ли его записки? Он открыл правую дверцу стола, нагнулся и вытянул нижний ящик. Неделю назад они еще лежали здесь, но КГБ, как любил говорить майор, не дремлет. Руки тряслись, когда он рылся в бумагах, но в конце концов из-под писем Софии появился знакомый блокнот.
Закрыв дверцу, Эрвин хотел уже встать, но вдруг заметил на столе школьную тетрадь фиолетового цвета. Интересно, по какому это предмету, подумал он, поднес ее поближе к глазам и увидел, что на обложке небрежным почерком Тимо нацарапано что-то странное: «Чемпионат Советского Союза по футболу».
Эрвин открыл тетрадь и обнаружил внутри турнирную таблицу, нарисованную кое-как, без линейки. Названия команд соответствовали настоящим, разве что часть из них играла в лиге А, а часть – в лиге Б, но результаты! «Металлург» из Рустави забил в ворота ЦСКА целых двенадцать мячей, не пропустив в ответ ни одного, Ленинаканский «Ширак» и Фрунзенская «Алга» сыграли вничью 4:4… Немного поискав, Эрвин нашел и окончательный счет сегодняшнего матча – коплиское «Динамо» разгромило московский «Спартак» аж со счетом 9:3.
Надо было срочно выбираться из этого сумасшедшего дома, и Эрвин потянулся за костылями.
Глава вторая
Виктория, богиня победы
– Мама, тебя к телефону!
Перед тем как открыть дверь, Моника вежливо постучала – стало быть, в этом отношении за пять лет ничего не изменилось; остальное выяснится постепенно.
Виктория надела на ручку колпачок, положила ее рядом с рукописью и встала; стул недовольно скрипнул – все, на что способен предмет мебели, а намного ли большими возможностями располагает человек?
– Кто звонит?
– Тетя Тамара.
В висках запульсировало, но Виктория отогнала тревогу – бессмысленно волноваться авансом. Дочь следовала за ней чуть в стороне, как тень, они прошли по коридору до прихожей, затем Моника деликатно проскользнула в свою комнату, Виктория же – судьба среднего возраста – отвечать за всех, как за тех, кто моложе, так и за тех, кто старше, – протянула руку к трубке, беспомощно лежавшей на темно-зеленой скатерти, которой был застелен узкий столик под большим зеркалом. Точно так же она дожидалась ее здесь и в ту страшную ночь, когда тоже позвонила Тамара.
– Я слушаю.
– Виктория?
Голос невестки звучал мрачно, почти зловеще.
– Что-то не так?
Виктория пыталась сохранить беззаботный тон, но в ее голове беззвучно кричала маленькая девочка, которой она когда-то была и в каком-то смысле оставалась и сейчас: «Дай бог, чтобы с Эрвином ничего не случилось, пусть это будет обычный приступ, я пойду и успокою его, главное, чтобы не произошло чего-то непоправимого».
– Да, не так. – Тамара не торопилась, она сделала паузу, как актер перед особо драматичной репликой, и затем добавила раздраженно: – Эрвин исчез!
Виктория облегченно вздохнула – это еще не так страшно, это оставляло надежду. Надежду? На самом деле надежда исчезла раньше Эрвина.
– Что значит исчез? – спросила она серьезно, даже строго – с истеричками иначе нельзя, к ним надо относиться требовательно.
– Когда я пришла с работы, его не было.
– Может, пошел в магазин? Или в баню?
– В баню?
Тамара выдержала еще одну паузу; можно было, конечно, рассердиться, прикрикнуть, мол, что ты тянешь, почему не говоришь всего сразу; можно было, но не стоило. Тамару надо было понять, молодая провинциалка, думала, что сделала хорошую партию, солидный человек, столичный адвокат, а теперь приходится ухаживать за инвалидом.
– Он взял с собой весь свой гардероб! – выпалила та наконец и разрыдалась.
Кое-чему невестка у Эрвина все же научилась – брат никогда не говорил: «моя одежда», только «мой гардероб».
– Что именно? – спросила Виктория мягко, почти по-матерински.
– Сорочки, белье, носки, вторую пару брюк, – перечисляла Тамара, всхлипывая. – Опустошил даже вешалку с галстуками! Паспорт и свидетельство об инвалидности, естественно, тоже исчезли. На кухонном столе оставил записку: «Поехал в Ригу начать новую жизнь». Разве он не сумасшедший?
В этом Тамара, увы, была права.
– А Тимо не видел, как он уходит?
– Нет, он был на шахматных соревнованиях, мы пришли почти одновременно, он, возможно, минут за десять до меня. Что мне теперь делать? Где мне его искать? Я не могу поехать за ним в Ригу, у меня даже денег на это нет.
Прозрачный намек, что Виктория не внесла еще ежемесячное «пособие».
– Тебе и не надо никуда ехать, вряд ли это письмо соответствует действительности, сама подумай, что Эрвину делать в Риге, у него там никого нет. А где он взял деньги на билет?
– Исчезли его золотые часы.
– Не думаю, чтобы он стал их продавать, ты же знаешь, это подарок отца, Эрвин очень ими дорожит. Так что не волнуйся, далеко он не уехал, скорее всего, просто отправился к Софии.
– Может, ты позвонишь ей?
– Я бы не хотела ее тревожить, София будет нервничать.
– Наверно, мне следует обратиться в милицию?
Виктория напряглась.
– В этом нет никакой необходимости. Да, Эрвин не здоров, но опасности для общества он не представляет, – сказала она резко, сразу пожалела о своем тоне и добавила: – Если очень хочешь, я позвоню Софии.
– Спасибо, Виктория, не знаю, что бы я без тебя делала.
Распрощавшись, Виктория сразу же заказала междугородный разговор, и тут в дверях снова возникла Моника:
– Мама, что-то случилось?
Почему девочка так взволнована?
– Ничего особенного, Эрвин пропал куда-то, Тамара беспокоится.
Когда с Эрвином случилось несчастье, дочь была в Москве и потому восприняла все довольно абстрактно – молодежи не хватает эмпатии.
– А почему она считает, что дядя поехал в Ригу?
– Он оставил записку.
Глаза Моники за сильными очками замигали.
– Мама, это моя вина, – сказала она упавшим голосом. – Я видела его и даже говорила с ним, но не поверила, что он всерьез.
Ах вот оно что!
– Я встретила дядю на углу Тарту-маанте, я возвращалась из булочной, он был одет очень нарядно, в демисезонном пальто, в шляпе, с белым шелковым шарфом, но почему-то с рюкзаком на спине. Я спросила, куда он собрался, он ответил: «В Ригу, на балет». Я подумала, что он шутит, у него был хитрый вид, я давно не видела его в таком хорошем настроении. Вот я и пошутила в ответ, зачем, мол, в Ригу ехать, разве в Таллине нет балета? А он объяснил, что у эстонского балета уровень слишком низкий. Потом я еще поинтересовалась, не трудно ли ему будет добираться одному в такую даль, он сказал, что нет, новый протез хорош, а к костылям он привык. Мне стало стыдно, что я задала такой бестактный вопрос, и я быстро простилась.
– Почему ты мне сразу об этом не сказала?
– Вы с отцом оба были на работе, я стала проявлять фотографии и забыла, только сейчас, когда позвонила тетя Тамара, вспомнила… Представь себе, мама, я еще пожелала ему счастливого пути! Боялась, он сочтет, что я не понимаю шуток.
Дочь была явно не в себе, стесняется, подумала Виктория, это хорошо, что стесняется, стыд – самое красивое из человеческих чувств.
– Я думаю, он действительно пошутил, – сказала она. – Что ему делать в Риге, у него там никого нет.
Она отправила Монику на кухню ставить чайник и, поскольку из междугородной все не звонили, пошла в гостиную. Арнольд сидел на диване и при свете торшера читал «Рахва Хяэл». Раньше муж был малотребовательным, мог расположиться где угодно, даже если собирался работать, освободите уголок любого стола, и ладно, но в последнее время он стал устраиваться поудобнее. Годы, подумала Виктория, массивный череп мужа давно блестел, широкие плечи обвисли, даже чересчур, учитывая небольшой рост, а без очков он не мог уже ни ходить, ни читать, однако же присущие ему спокойствие и хладнокровие сохранил. Виктория ценила уравновешенность мужа, его трезвость и особенно тот стоицизм, с которым Арнольд относился к ее неожиданной карьере, при его недюжинном уме муж тоже мог бы многого добиться, но в свое время ему пришлось бросить университет, после войны, правда, он поступил на заочное отделение, закончил его и даже начал писать диссертацию, но вдруг понял – поздно! Успеху Виктории он не завидовал, наоборот, радовался, что поступления в бюджет семьи все растут, теперь, когда сыновья отправились учиться, это было немаловажно.
– Хрущев опять едет на сессию ООН, читала? Как я понимаю, он окончательно решил повернуть Америку на социалистический путь, – сказал Арнольд, подняв взгляд от газеты и заметив жену.
У Виктории, однако, не было настроения подтрунивать над Хрущевым.
– Эрвин исчез. Уложил, как выразилась Тамара, весь свой гардероб, галстуки в том числе, в рюкзак, надел шляпу и оставил записку, что отправляется в Ригу начинать новую жизнь.
– В Ригу? – тихо засмеялся Арнольд.
Казалось, новость его всего лишь забавляет, теоретически, возможно, это и было забавно, надо же, что опять натворил безумный шурин, но Виктория знала, что на самом деле у мужа доброе сердце, возможно, даже слишком доброе для мужчины.
Вот он уже и посерьезнел, сложил газету и сменил очки:
– Тамара в милицию не сообщала?
Виктория села на стул – рядом стоял диван, но ей не нравились мягкие сиденья, они убаюкивали, расслабляли, разрушали рабочее настроение.
– Хотела, но я отсоветовала.
– Почему?
– Эрвин не настолько болен, чтобы с ним могло случиться нечто серьезное.
Сказав это, она сразу поняла, что сама своим словам не верит; вот и Арнольд мгновенно нашел слабое место в ее утверждении:
– Однажды, по-моему, уже случилось.
– Для того чтобы повторить случившееся, необязательно пускаться в дорогу.
Виктории не нравилось, когда сомневались в ее аргументах, даже если сомневался муж, поэтому последнее предложение прозвучало – она и сама это услышала – резче, чем стоило бы.
– Я вообще не думаю, что эта записка правдива, – продолжила она миролюбивее, – что ему делать в Риге, у него там нет ни друзей, ни знакомых.
– Может, он поехал к Софии?
Викторию порадовало, что мужу пришла в голову та же мысль, что ей.
– Я тоже на это надеюсь. Уже заказала междугородный, скоро выясним.
Пришла Моника, сказала, что вода кипит, Виктория поднялась и пошла накрывать вместе с дочерью на стол. Все время ужина она была рассеянна, в голову лезли всякие мысли про Эрвина, даже воспоминания детства, как они в Москве во время Гражданской войны собирали по дворам куски досок, дабы было чем топить плиту. Словно брат умер! Конечно, некоторые основания так считать она имела, человека делает таковым его разум, и с этой точки зрения Эрвин действительно был уже не тот, что раньше. Нет, и сейчас с ним можно было обсуждать самые сложные темы, от литературы до мировой политики, только вот в какой-то момент брат мог ляпнуть нечто такое, чего здоровый человек никогда не сказал бы. И это он, один из самых умных, самых образованных людей своего поколения! Кого в этом винить, Сталина или судьбу, Виктория не знала, возможно, Сталин и был судьбой их всех, тех, кто когда-то мечтал о лучшей жизни.
Телефон зазвонил только тогда, когда ужин близился к концу и они уже пили чай со свежим вареньем из черной смородины. Разговаривать с Софией по телефону было, как всегда, мучительно, надо было буквально кричать и повторять каждое предложение по нескольку раз, пока сестра не услышит и не поймет. Нет, в Силла Эрвин не приехал, по крайней мере, пока, последний поезд еще не прибыл. Как Виктория и боялась, голос Софии, когда новость об исчезновении брата дошла до нее, явственно задрожал. Про Ригу Виктория вообще говорить не собиралась, но София сама спросила, не оставил ли Эрвин записки, и пришлось сказать.
– В Риге жил деловой партнер папы, Менг, – вспомнила София. – Когда я ехала в Германию, он встретил меня на вокзале и провел со мной два часа до отхода берлинского поезда, повез в кафе, угостил мороженым.
Когда София начинала о чем-то говорить, остановить ее было невозможно. Она успела еще поведать, что у Менга была глухонемая сестра, которая за ним ухаживала, и только после этого заметила, что все это явно не относится к делу, поскольку Менг давно умер. Они договорились, что, если Эрвин вдруг приедет на последнем поезде, София сама позвонит Виктории, обещали друг другу, что, как бы ситуация ни развивалась, встретятся в воскресенье на дне рождения Германа, и распрощались. Дав отбой, Виктория на минуту задумалась. У Германа телефона не было, ему она позвонит завтра, на работу, Лидию же, зная, в каком состоянии нервы младшей сестры, она предпочла бы пощадить, но вспомнила, насколько Эрвин был близок именно с Лидией – она, Виктория, в детстве даже ревновала его, – вспомнила и передумала.
– Лидия?
– Виктория? Я как раз думала о тебе, богиня победы.
Богиней победы Викторию стал называть Герман после того, как она, будучи еще совсем ребенком, выиграла у отца партию в шашки и впала в такой восторг, что бегала по квартире и кричала: «Я победила! Я победила!» Поддразнивание Германа подлило еще больше масла в огонь, Виктория нашла в книге по истории искусств изображение Ники Самофракийской, соорудила себе из вешалок и простыней огромные крылья и однажды, когда Герман и София вернулись из школы, ошарашила их – влезла в прихожей на стул, замахала крыльями и завопила: «Я – богиня победы, берегитесь меня, не то никогда ничего не выиграете!» Кто тогда мог подумать, что примерно так все и будет?
– Лидия, ты Эрвину не звонила на днях?
Выяснилось, что даже не на днях, а именно сегодня.
– Виктория, у меня такое ощущение, что он выздоравливает. Мы болтали довольно долго, и он все это время говорил совершенно разумно. Мне вообще кажется, что врачи преувеличивают его болезнь. Я знаю, на чем они основываются, дескать, если человек совершает попытку покончить с собой, значит, он ненормален, но я в этом сильно сомневаюсь. Возможно, именно самоубийцы и есть нормальные люди, а мы, все остальные, ненормальные…
– Лидия, Эрвин пропал, – прервала Виктория монолог сестры.
Лидия, как и София, говорила обычно долго, но, в отличие от старшей сестры, еще и сбивчиво.
– В каком смысле «пропал»? – не поняла Лидия.
Виктория рассказала о случившемся и услышала, как Лидия заплакала. Она рассердилась на себя, все-таки не стоило той звонить, София хоть и тоже расстроилась, однако сохранила самообладание, сверхчувствительная Лидия же при малейшем намеке на несчастье теряла голову.
– Ты не заподозрила, что у него могут быть подобные идеи? Может, он намекнул тебе, куда собирается податься? – постаралась она трезвыми вопросами привести сестру в чувство, это в какой-то степени удалось, но сказать про замыслы Эрвина Лидия ничего не могла, он ни на что подобное даже не намекал.
Дав отбой, Виктория еще раз позвонила Тамаре, узнала, что Эрвин не вернулся, и обещала зайти к невестке завтра, чтобы обсудить ситуацию. Тамара немного успокоилась и новость, что в Силла Эрвина нет, восприняла стойко. Пожелав ей спокойной ночи, Виктория решила временно прервать поиски, надо было закончить оставшуюся на половине главу, подготовить завтрашнюю лекцию, еще и обдумать, что точно сказать ректору относительно кафедры французского языка; но когда она положила трубку, в дверях появилась Моника с какой-то малоформатной брошюрой в руках:
– Мама, я посмотрела расписание. Если дядя Эрвин действительно собирался в Ригу, он может быть еще на вокзале, поезд отходит только через сорок пять минут. Конечно, он мог поехать в Тарту и там пересесть, но я бы на его месте выбрала прямой путь…
Дочь заразилась всеобщей нервозностью и чувствовала себя виноватой из-за того, что дала больному дяде беспрепятственно уйти прочь.
– Я вообще не верю, что он поехал в Ригу, ему там, я уже сказала, нечего делать, – прервала Виктория ее рассуждения.
Моника молча посмотрела на мать – серьезная, скорее коренастая, чем полная, в сильных очках, она была почти копией Арнольда.
– Но разве в отношении дяди такая логика работает, он же… – попыталась она аргументировать свое предположение, последнего, решающего слова все же не осмеливаясь произнести.
– Душевнобольной? – закончила Виктория сама с ледяным спокойствием. – Да, это верно, но именно душевнобольной, а не дурак. Дураков в нашей семье нет.
Она чуть было не сказала – среди нас, Буриданов, но в последнюю секунду выбрала другую формулировку, дочь могла неправильно истолковать ее слова, Моника ведь была не Буридан, а Лоодер, как Арнольд, да и сама Виктория была Лоодер, но в душе она все равно причисляла себя к Буриданам, и не только потому, что не любила лентяев[2].
Глаза дочки заморгали, и Виктория поняла, что допустила ошибку – когда молодежь стремится проявить добрую волю, нельзя ей препятствовать. К тому же для успокоения совести не грех предпринять и лишнее усилие.
– Хотя, кто знает, может, ты и права. Быстро собирайся, поедем…
Им повезло, едва они вышли из дому, как Моника заметила зеленый огонек такси. До вокзала доехали молча, Виктории не любила обсуждать при посторонних и менее серьезные проблемы. Эрвина, конечно, нигде не было, поезд уже стоял на перроне, они проверили все вагоны, заглянули в здание вокзала, в зал ожиданий, к кассам и даже в ресторан. Когда они, лавируя между лужами, уже шли к трамвайной остановке, Моника неожиданно спросила:
– Мама, а что, собственно, случилось с дядей? То есть я знаю, что он пытался покончить с собой, но как это произошло?
– Он перерезал себе вены, его спасли, но он потерял много крови, и пришлось ампутировать ему ногу.
– Да, но почему?
– Этого никто не знает. Возможно, он почувствовал, что его душевное здоровье ухудшается. А может, наоборот, не почувствовал.
– Мне так жаль его, раньше он был совсем другим человеком – веселым, оптимистичным, спортивным. Я никогда не подумала бы, что с ним может случиться такое.
– Его здоровье разрушил лагерь.
Моника, кажется, намеревалась развить тему, но подъехал трамвай, они вошли в вагон, и там, в толкотне, разговаривать было совершенно невозможно, однако только они снова ступили на тротуар, как дочь задала очередной вопрос:
– А за что дядя Эрвин попал в лагерь?
– Это была ошибка, трагическая ошибка. Когда в сороковом сменилась власть, Эрвина пригласили на работу в Министерство иностранных дел. Он пошел. Долго он там не проработал, поскольку через месяц Эстония вошла в состав Советского Союза и министерство было ликвидировано. Но когда стали арестовывать буржуазных деятелей, Эрвин тоже попал в списки… – Она подумала немного и добавила: – То есть нам этого никто не говорил, но это единственное разумное объяснение.
Больше Моника ничего не спрашивала, затихла, наверно, переваривала услышанное.
Дома Виктория сняла пальто и пошла прямо в спальню. Конечно, теперь, когда не было ни Вальдека, ни Пээтера, можно было перенести рабочий стол в комнату мальчиков, Арнольд уже предлагал ей это, но Виктории идея не понравилась: Пээтер будет ездить домой несколько раз в семестр, Вальдек, естественно, реже, из Москвы дорога и длиннее, и дороже, но все же пусть сыновья знают, что где-то есть место, принадлежащее именно им. Точно так же она держала пустой комнату Моники, пускала туда, правда, иногда родственников мужа Софии, когда те приезжали в Таллин учиться, но всегда только временно, благодаря этому возвращение дочери прошло сейчас безболезненно, словно она и не отсутствовала пять лет. Остальные две комнаты (каморку служанки она за нормальное помещение не считала) для работы не годились, они были проходные, к тому же Виктории нравилось, что есть отдельно столовая и гостиная, от одной мысли, что придется читать газету или слушать радио в помещении, пропитанном запахами еды, она брезгливо морщила нос. В итоге, несмотря на наличие в квартире пяти комнат, ее жизнь была сосредоточена в одном, правда, самом лучшем помещении, с окном во двор и потому тихом, тут она спала и работала, и единственным неудобством подобного устройства жизни было то, что при необходимости заглянуть в энциклопедию приходилось вставать и идти в гостиную, к книжному шкафу, здесь, на углу стола или на небольшой полке, все необходимые тома не помещались, но даже эта небольшая прогулка была скорее приятной, заменяя производственную гимнастику.