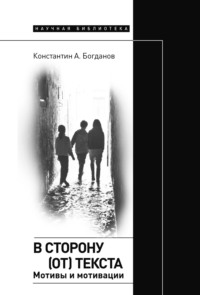
В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации
Я думаю, что связь дистантных мотивов в речи и тексте соотносима с возможной связью мотивов «жизненного мира». Одна из напрашивающихся здесь аналогий – давнее наставление Михаила Ломоносова о «совоображении» и уместности «приисканных идей»:
Сочинитель слова тем обильнейшими изобретениями оное обогатить может, чем быстрейшую имеет силу совоображения, которая есть душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные. <…> Должно смотреть, чтобы приисканные идеи приличны были к самой теме, однако не надлежит всегда тех отбрасывать, которые кажутся от темы далековаты, ибо оне иногда, будучи сопряжены по правилам следующия главы, могут составить изрядные и к теме приличные сложенные идеи[86].
«Сопряжение далековатых идей», как резюмирует ломоносовское рассуждение Юрий Тынянов[87], обнадеживает эвристической контекстуализацией. Особенностью высказывания, риторически объединяющего в себе, казалось бы, независимые друг от друга мотивы, является его содержательная непредсказуемость. Такое высказывание наделено заведомо «отложенным», незавершенным смыслом, открытым к его «будущему» истолкованию. Такова, в частности, поэтическая традиция японских хокку, в которых синтагматические компоненты текста подаются как разрозненные мотивы высказывания, связывающего их только в силу жанра и формальной метрической схемы (три строки: первая – из пяти, вторая – из семи и третья – из пяти слогов). Единственные связи, которые в этом случае предполагаются, ассоциативны, но соподчинительно необязательны. Ролан Барт расценивал хокку как пример текста, противостоящего привычным для европейского читателя «дешифрующим, формализующим или тавтологичным путям интерпретации»[88]. Хокку, по его мнению, оставляют читателя в состоянии «смысловой подвешенности, которая кажется нам наиболее странной, ибо она делает невозможным самое обычное упражнение нашей речи, а именно комментарий»[89]. Занятно, впрочем, что сам Барт от такого комментария не удерживается, оправданно связывая традицию хокку с практикой дзэн – достижением Сатори – «пробуждением перед фактом, схватыванием вещи как события, а не как субстанции»[90].
В объяснении специалистов по японской поэзии собственно формальными приемами хокку служат правила, рассчитанные на создание так называемого «избыточного чувства» (ёдзё), то есть чувства, «оставшегося за пределами стихотворения», – введение в стихотворение тропов, лишь очень опосредованно связанных с «основным» содержанием стихотворения, но уже тем самым расширяющих его семантическое и эмоциональное поле. Фактически это отдельные мотивы, которые, предваряя собою все стихотворение (макура-котоба – «слово-изголовье»), «способствуют созданию эффекта столкновения разноплановых слов и соответствующих реалий»[91].
При всем разнообразии гуманитарных методов и концепций, само представление о мотивах подразумевает, что для понимания уже сказанного требуются дополнительные усилия по выделению и учету таких особенностей текста, которые в той или иной степени наделяются предписывающим значением, – то есть позволяют сказать об этом тексте что-то еще. Порядок таких предписаний, как показывает история филологии, не бывает абсолютным, но он так или иначе подразумевает иерархию признаков, призванных подсказать, что считать в тексте важным, а что второстепенным или случайным. Исследовательский интерес в этих случаях сродни любопытству и, в определенном смысле, конспирологии – интересу к тому, что в старинных риториках именовалось «изумлением, порождаемым незнанием причин»[92]. Если мотивы заведомо предвосхищают их припоминание, то и само припоминание (или, точнее, сама способность к такому припоминанию) заставляет интерпретатора опираться на какие-то мотивы, позволяющие этому припоминанию состояться; то есть мотивы являются как формальными (структурными), так и содержательными элементами потенциальной само/интерпретации[93]. В социолингвистической терминологии аналогией такому пониманию мотива может служить понятие contextualization cues – намеки/сигналы контекстуализации, создающие предпосылки той или иной коммуникативной ситуации[94]. Даже если это аутокоммуникация – она может быть понята как столкновение или по меньшей мере взаимосвязь разных мотивов в ситуации некоторого обозначающего их экзистенциального опыта.
Значение мотивов, относящихся к разным текстам и разным жизненным ситуациям, видится мне при этом близким к тому, что напоминает о давнем словосочетании «мозаичная культура». Ставшее широко используемым и едва ли не публицистическим благодаря Абрааму Молю, оно, благодаря ему же, приобрело негативные коннотации. По мнению Моля, «мозаичность» современной культуры – результат информационного переизбытка и медийно-технологического разнообразия, несопоставимого с теми условиями, в которых существовала и воспринималась культура прошлого, якобы отличающаяся более логичной и иерархичной структурой познания[95]. В своих суждениях о бедах «мозаичной культуры» Моль тиражировал противопоставление организованного и неорганизованного мышления, но не уделял внимания тому обстоятельству, что культура и мышление – это не одно и то же. Но и то, что их связывает, не сводится к познанию и тем более к образованию: и мышление, и культура – это конгломерат не только некоторых знаний, но и эмоций, которые с этим знанием могут быть связаны очень опосредованно. «Организованное» по/знание представимо только в границах соотносимой с ним инстанции социального контроля – «надлежащим» воспитанием, образованием и, в конечной счете, властью, в чем бы она себя ни проявляла. Но вся история культуры – если понимать под нею не историю подчинения, а историю относительной свободы – свидетельствует, что «мозаичность» является как раз таки ее сущностным качеством: человек и общество свободны в выборе связей, придающих разрозненным фрагментам интеллектуального и эмоционального опыта некоторую прагматическую целесообразность. Другое дело, что ретроспективное установление таких связей обязывает к определенной работе по прояснению их характера – близости идей, психологических ассоциаций, временных и/или пространственных отношений.
Моль справедливо настаивал, что сама динамика «мозаичной культуры» (а я скажу: любой культуры) подразумевает комбинаторику создающих ее компонентов, а именно – некоторых элементов информации, «опорных слов мышления», использование и назначение которых определяется коммуникацией. Такие «атомы культуры» (или, иначе, как их называет Моль, «культуремы») понимаются им как сообщения и, соответственно, обязывают считаться с правилами их опознания и понимания, но он нигде не говорит, чем диктуются эти правила (кроме общих для них законов «орфографии», «грамматики», «синтаксиса» и т. д.)[96]. Не говорит он и о том, как опознаются эти самые элементарные факты культуры (хотя и упоминает попутно Проппа и Леви-Стросса). Я думаю, что понятие «мотива» в этом контексте уместно как сравнительно конкретная историко-культурная аналогия, подразумевающая внимание к динамическим, то есть мотивационным (например, эмоционально-языковым), аспектам коммуникативных трансформаций, наблюдаемых в культуре и обществе.
Еще одной – и тоже социологической – теорией, которая, как мне представляется, была бы полезной при обсуждении мотива как мотивации, является концепция «силы слабых связей». Марк Грановеттер, давший научную жизнь этому словосочетанию, был далек от размышлений о литературе и культуре. В центре его внимания были люди и социально-теоретическая (социально-метрическая) проблематика соотношения макроуровня (социальная мобильность, организация сообществ и политических структур) и микроуровня (межличностные взаимодействия внутри малых групп), позволяющая задаться вопросом, в чем выражается воздействие на индивидов тех звеньев социальных сетей, что не находятся в сфере их индивидуального и коллективного контроля. Гипотезой, которую сам Грановеттер считал «разведывательной» (exploratory), стало парадоксальное предположение, что слабые связи в большей степени, чем сильные, способствуют индивидуальным возможностям – социальной мобильности, распространению и получению информации, интеграции в другие сообщества и созданию социальной сплоченности[97].
Полвека спустя – попутно активному обсуждению концепции Грановеттера социологами – возможностей ее расширительного истолкования коснулись теоретики культуры. Установление «слабых связей» в истории культуры с опорой на мотивный (или мотивационный) анализ по меньшей мере усложняет представления о самой этой истории, вписываясь в уже широкий ряд исследовательских методик, которые ставят своей целью изучение истории идей, эмоций, телесных практик, традиций и способов коммуникации и т. д.[98] Акторы культурного пространства в этих случаях приравниваются к акторам социальных сетей – жанровые, стилистические, поведенческие, вкусовые и иные атрибуты («культурные объекты и их связи») рассматриваются как элементы коммуникативного взаимодействия, порождающего те или иные психологические и дискурсивные эффекты[99]. Я думаю, что интервенция в область социальной теории может быть продуктивной и здесь – хотя бы в том отношении, что она позволяет задуматься о характере мотивов и мотиваций, предопределяющих опыт само/наблюдения и воображения. Что и почему делает что-то настолько важным, чтобы о нем вспоминать – хотя бы иногда?
Пока же повторюсь в своем главном методологическом тезисе: мотивы – это не только самоочевидные «факты» текста или аудиовизуальных медиа, но и термины проективной антропологизации социального и культурного опыта.
Фауна морали. Русские классики и русские зайцы
У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают».
Л. Н. Толстой. «Детство», 1852Заяц ослушивается, вздыбливая глядит и слушает кругом.
В. И. Даль. «Словарь живого великорусского языка», 1865Текст этой главы представляет расширенную версию доклада, прочитанного в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург) на междисциплинарной научной конференции «Философия зайца: неожиданные перспективы гуманитарных исследований» (19–21 июня 2014). Невольным инициатором этой конференции стал тогдашний министр культуры В. Р. Мединский, за год до того запальчиво заявивший в эфире радиостанции «Business FM», что ему известен целый институт, входящий в систему Российской академии наук, сотрудники которого в течение нескольких лет на бюджетные деньги занимались изучением «философии зайца»: «Я вам называю тему конкретной научной работы, я не могу понять, что в ней кроется, называется она „Философия зайца“, и в течение пяти лет люди под это дело получали финансирование!» (Чесноков И. Заяц против министра // Эксперт. 2014. 26 июня (expert.ru/russian_reporter/2014/24/zayats-protiv-ministra). Что скрывалось под «конкретной научной работой», министр не уточнил, но сами эти слова, как и многие другие его заявления, прозвучали в атмосфере дискуссий вокруг уже определившейся позиции Министерства культуры о будущем подведомственных ему институтов – в частности, петербургского Института истории искусств (Зубовского института), переживавшего в это время административную и кадровую лихорадку, вызванную командными решениями министерских чиновников по «оптимизации сети учреждений культуры». «Оптимизация» петербургского института завершилась в конечном счете массовыми увольнениями его сотрудников и местным торжеством бюрократического контроля над учеными, а объявленный в конце июня того же года курс на реформу Российской академии наук придал произошедшему в Зубовском институте характер наглядного примера, чем на практике оборачивается властная «оптимизация» российской науки. Загадочные и, по видимости, ернические слова Мединского о «философии зайца» запомнились при этом столь же показательно – как симптом заведомой и легко предсказуемой критики ученых-гуманитариев, растрачивающих бюджетные средства на занятия бесполезной чепухой. Любопытствующее желание последних прояснить утверждение министра о «философии зайца» не заставило себя ждать, и быстро обнаружилось, что поводом к нему могло послужить обширное стихотворение научного сотрудника Института культурологии В. Л. Рабиновича «Трансмутация зайца», предпосланное дополненному переизданию его монографии «Алхимия как феномен средневековой культуры» (Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры [1979]. 2‐е изд. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012).
В этом стихотворении автор (умерший осенью 2013 года) выразительно сравнивал самого себя с «заполошным зайцем», дрожащим на цыпочках перед Левиафаном. Оценил ли эту образность Мединский, остается гадать, но анекдотически вероятная ситуация не меняет ее удручающего контекста – убеждения высокопоставленного чиновника в том, что наука без руководства власти только мешает «оптимизации» этой самой науки. Организация и проведение конференции, состоявшейся в Институте русской литературы, стали в этом случае своеобразным флешмобом – протестной акцией исследователей, изучающих историю культуры и полагающих, что тематика и методология такого изучения подлежат экспертной и перспективной оценке не со стороны чиновников, а изнутри научного сообщества. Можно заведомо иронизировать над «несерьезностью» «заячьей темы» в истории культуры – но, в отвлечении от министерски связываемой с зайцами «философии», как не считаться с тем простым фактом, что «присутствие» зайцев в литературе, живописи, фольклоре, звуковых и визуальных медиа исключительно обширно, разнообразно и значимо? В анонсе к конференции Андрей Костин напоминал, что заяц – «один из наиболее прочно вошедших в культурный обиход современного человека бестиарных образов. Мы слушаем в детстве сказки о ледяной и лубяной избушках и о теремке; танцуем с бутафорскими ушами на утреннике в детском саду; с увлечением читаем в школе стихи о сердобольном деде Мазае и прыгаем с Алисой в нору за Белым Кроликом навстречу Мартовскому Зайцу; мы узнаем потом, что соломинкой в пучине русского бунта может оказаться заячий тулупчик, а фотографии самых красивых девушек можно найти под обложкой с ушастым профилем; в веселой компании одной из тех немногих песен, слова которой будут помнить все, окажется партизанский гимн косящих траву зайцев… Ряд этот можно продолжать бесконечно: значимые зайцы найдутся в любой сфере человеческой культуры во все времена. Образы эти имеют право быть исследованы, поскольку в гуманитарной науке нет такой мелочи, изучение которой не привело бы в конечном счете к открытию закономерностей и внятному уяснению нашей истории и нас самих» («Философия зайца»: Неожиданные перспективы гуманитарных исследований: Программа междисциплинарной научной конференции. Санкт-Петербург, 19–21 июня 2014 года // www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=FxymI9xIprU%3D&). Заключительные слова в этой цитате заслуживают того, чтобы подчеркнуть их. В качестве мыслительного эксперимента достаточно поставить на место «зайца» любую другую гуманитарную тему, чтобы представить ее заведомое неприятие теми, кто рассуждает о приоритетах практики над теорией, о государственной пользе и общественном благе. Вопрос, который ставился в этом случае как «вопрос о зайцах», для организаторов конференции был принципиально важен как гораздо более общий вопрос о том, чем определяется социальная роль гуманитарного знания в современном обществе и в чем состоит ответственность тех, кто обеспечивает социальное взаимодействие между институтами культуры, науки и власти. История вокруг конференции, само название которой быстро стало своеобразным «мемом» сетевого сообщества, получила широкий отклик в средствах массовой информации. Реакция Мединского на состоявшуюся конференцию в письме-«приветствии», адресованном ее организаторам, только подтвердила правомерность ее проведения: ученым-гуманитариям министр противопоставил «рядовых налогоплательщиков» (позабыв при этом, что ученые являются такими же рядовыми налогоплательщиками): «Убежден, что затрагиваемые на симпозиуме вопросы особенно важны и актуальны для миллионов рядовых налогоплательщиков, которые в конечном счете и оплатили рабочее время участников конференции, обладающих высокими научными степенями и званиями, лучших научных сотрудников и преподавателей государственных бюджетных учреждений и институтов». (Фотокопию письма с подписью Мединского см. в материале: Мединский ответил на «Философию зайца» // Lenta.ru. 2014. 20 июня (lenta.ru/news/2014/06/20/zzaetz).) Увы, искрометная ирония приснопамятного министра в очередной раз обнаружила конфликтное противостояние общества и власти – на этот раз особенно показательное потому, что оно развернулось вокруг темы, казалось бы декларативно далекой от приоритетов «социальной пользы», но символически указывающей на экспертное право ученых и общества интересоваться тем, что представляется важным в силу иных, непонятных чиновникам обстоятельств. Одним из попутных следствий того же противостояния стало создание сетевого сообщества под названием «Философия зайца». За время его существования участники и гости этого сайта опубликовали тысячи постов с изобразительными и текстовыми материалами, которые, с одной стороны, очевидно иллюстрируют немаловажную «роль зайца» в мировой культуре, а с другой – свидетельствуют о значимости «мемически» маркированной социальной коммуникации. Вослед конференции «заяц» стал очередным мемом, прямо или опосредованно выразившим стремление к просвещенному знанию и общению, которое самоценно как таковое и по меньшей мере безразлично к тем, кто претендует выступать глашатаями науки в терминах прикладного или государственного утилитаризма.
* * *Зайцы врываются в русскую литературу с поэзией Г. Р. Державина. На фоне предшествующей традиции торжественного красноречия и возвышенных од упоминания о зайцах у Державина вписываются в стилистические контексты иной изобразительности – это не парадный, но суверенный мир личной жизни, персонального опыта и повседневного быта. Такие упоминания важны в этих случаях своей новизной – именно тем, что поэтическое вдохновение поэта нисходит до малозначимых ранее мелочей, но уже тем самым наделяет их поэтической значимостью. Точность наблюдения и остроумие стихотворных зарисовок достаточны при этом как признаки поэтики, призванной к тому, чтобы не только восславить великое, но и не забыть о малом – уметь увидеть то, что незаметно для самодовольного ума и равнодушного взора. Давно и справедливо замечено, что лирическое умозрение Державина, сколь бы барочно-аллегорическим оно ни было, – это декларативный навык зрения, возрождение горацианской «поэзии картин» (Ut pictura poesis), репрезентация визуального[100]. Поэт видит, как гонимый охотниками «В опушке заяц быстроногий, / Как колпик поседев, лежит» («Осень во время осады Очакова», 1788), как счастливый сельский житель зимою по снегу «зайца гонит, травит псами» («Похвала сельской жизни», 1798), и описывает свой собственный охотничий досуг:
Иль в лодке вдоль реки, по брегу пеш, верхом,Качусь на дрожках я соседей с вереницей;То рыбу удами, то дичь громим свинцом,То зайцев ловим псов станицей.(«Евгению. Жизнь Званская», 1807)Житейские впечатления разнообразятся мелочами, но внимание к деталям обнаруживает не только поэтическую, но и вероучительную мораль: ведь все существующее под солнцем есть результат Божьего творения и, соответственно, природной взаимосвязи и целостности. «Лестница существ», как ее описывал, например, европейски прославленный современник Державина Шарль Бонне в трактате «Созерцание природы» (вослед многочисленным изданиям на европейских языках его русскоязычные переводы появятся в 1792–1796 и 1804 гг.)[101], представлялась поступательной последовательностью, в которой за камнями и кораллами следовали растения, животные, ангелы и архангелы. В этом ряду зайцы были на своем месте и, как подсказывали западноевропейские и русскоязычные переводы псалма Давида о сотворении мира, Господь неслучайно отвел им, как и прочим робким и беззащитным созданиям, свое пристанище: «высокие горы – сернам; каменные утесы – убежище зайцам» (Пс. 103: 18)[102]. Занятно, что в еврейском тексте Библии речь при этом шла не о зайце, а о дамане (евр. «шафан») – небольшом травоядном млекопитающем, внешне схожем с бесхвостыми сурками или морскими свинками. Греческие и латинские переводчики древнееврейского текста о даманах знали понаслышке и поэтому в греческом и латинском текстах соответствующего псалма неведомое животное нашло для себя не менее диковинных родственников в дикобразе (chyrogryllius), еже (ericus) и зайце (lepus и молодой заяц: lepusculus)[103]. Церковнославянский перевод выбрал из них зайца, вполне соответствующего как «страноведческому», так и дидактическому контексту библейского пассажа, обретавшего символическое, но зато и общепонятное прочтение. В истолковании этого псалма в проповеди на Фомину неделю Стефан Яворский объяснял его смысл следующим образом:
Нападут ловцы на бедного зверя, выпустят псов гонящих, которые уже отверстым гортанием бедное животное гонят и хотят поглотити. Прибегает бедный заец с страхом и трепетом под камень какой великой, либо в разселину каменную впадет. О щастливый, который таким образом от страха избавляется! Камень прибежище заяцем <…> Камень же бе Христос, который ныне язвы свои дражайшыя аки разселины каменные показует, да быхом в них имели прибежище и сокровение[104].
Об этом же псалме вспоминал протопоп Аввакум, обличая пагубу Никоновских реформ:
камень [… —] церковь божия; зайцы – християне православныя. Яко зайчик под камень хоронится от совы и от серагуя и от псов, наветующих ему, тако и христианин, в церковь приходя, избывает душегубителя диавола и бесов. А ныне и во церквах тех, яко под камень заец бедной не уйдет, яко совы, пастыри тово и ищут, как бы христианина погубити. И не токмо совы, но и псы тово и нюхают, сиречь своя братия, мирстии, друг друга предают. Люто время пришло[105].
Державин поэтически переложил 103‐й псалом в оде «Величество Божие» (1789), попутно русифицировав и среду заячьего обитания, «переселив» их с ливанских возвышенностей в среднерусскую полосу:
По высотам крутых холмовТы прядать научил еленей,А зайцам средь кустов и тенейТы дал защиту и покров[106].Интересно, что полувеком ранее М. В. Ломоносов, переложивший тот же псалом в середине 1740‐х годов, о зайцах не упоминал, оставаясь верным избранному им «высокому» стилю поэтического обращения к Господу. Но он же упомянул зайцев в «Кратком руководстве к красноречию» (1743) – в пересказе смешной и потому стилистически сниженной «картины» Филострата Старшего (1, 6):
Чтобы сей заяц у нас не убежал, станем его ловить с купидинами. Смотри, он сидит еще под яблонью и ест упавшие яблоки, а иные не доевши оставляет. Смотри, как его купидины ловят: иные бьют в ладоши: иной кричит, иной полой машет; некоторые, с криком налетая, на него нападают; другие гонятся за ним следом; иной с великим стремлением на него бросается. Заяц в другую сторону повернулся, и один ухватил его за лапу, однако заяц из рук вырвался. И так все засмеявшись упали, иной ниц, иной набок, иной навзничь и разными своими положениями разные свои прошибки показывали[107].

Пьеро ди Козимо. Венера, Марс и купидон (деталь). 1490. Берлинская картинная галерея. Фото: Sailko, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Заецъ. Миниатюра из лицевого списка «Слова о рассечении человеческого естества» (XVIII в.). Ин-т русской литературы (Санкт-Петербург), кол. И. Н. Заволоко, № 257, л. 28
Для европейской литературы пересказываемый Ломоносовым пассаж отсылал к длительной традиции аллегорически развлекательных, но и моралистических назиданий, в которых зайцам довелось выступать, с одной стороны, в роли трусливо-робких и похотливо-плодовитых созданий (в искусстве Возрождения и барокко ассоциируемых с Афродитой-Венерой и эротами-купидонами), а с другой – служить примерами религиозного смирения и надежды на помощь Господа[108]. Отмеченная уже в раннехристианских «Физиологах» способность зайца из‐за коротких передних лап быстрее бежать в гору, чем с горы, и тем самым спасаться от своих преследователей, дала жизнь наставительному призыву следовать тем же способностям на пути веры и добродетели – устремляться помыслами вверх к Господу, а не вниз – к греховным соблазнам и злу[109].
Упование на Господа, как подсказывали те же аллегории, дает свои плоды – таков контекст распространенных в европейской церковной и светской живописи изображений зайцев, лакомящихся райским виноградом. В России традиция подобных аллегорий представлена скупее[110]. Один из ее литературных примеров – вирши Симеона Полоцкого из «Вертограда многоцветного» (1676–1680) о гонимом псами зайце, которого спасает «муж некто преподобный», здесь же излагающий мораль этого спасения своим спутникам: