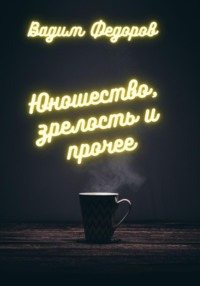
Юношество, зрелость и прочее

Вадим Федоров
Юношество, зрелость и прочее
Армейские годы
Армия
В армию меня забрали в ноябре 85-го. Всю ночь пили, плясали, а в 6 утра сдали меня в военкомат. Потом распределительный пункт в Туле. Потом нас, 10 человек, усталый прапорщик повёз к месту службы. В город Острогожск. В/Ч 20115.
20115 оказалась учебной автомобильной частью. В простонародье именуемой учебкой. И где первые полгода службы я в звании курсанта изучал, как управлять 11-тонной махиной с ракетой в кузове. А после окончания учёбы меня оставили на должности командира отделения. Чтобы я в свою очередь обучал новых курсантов.
Присвоили мне звание младшего сержанта. Жить стало веселее. Пару раз приезжал мой брат, и меня пускали в увольнение в город. В остальное время наш ротный, майор Васильев, увольнения строго ограничивал. Считая, что сержант должен заниматься личным составом, а не шляться по выходным дням по городу. В котором, кстати, были медицинское и педагогическое училища.
Об училищах я узнал в своё второе увольнение. Да, я прослужил почти год и только во второй раз вышел за ворота части. Я смотрел на проходящих женщин, и они все казались мне богинями. А когда мы зашли на местную дискотеку, я понял, что надо что-то делать. Тем более до возвращения в родную казарму оставалось всего два часа.
Я подошёл к группе стоящих у стены девушек, выбрал из них не самую красивую, но и не самую дурнушку, и пригласил на танец. Мы закружились в вальсе. А у меня закружилась голова. Я склонился к девичьему ушку.
– Девушка, у вас верёвочки не найдётся?
– Нет. А зачем вам?
– Хочу с вами знакомство завязать, да вот не знаю, с чего начать, – стараясь не наступить на ноги партнёрше, прокричал я.
– Найдётся, – крикнула она в ответ.
Я взял у неё телефонный номер. И проводил до дома. Оказалось, она жила недалеко от части. В частном секторе. Буквально пять кварталов от КПП. До которого я потом мчался со всех ног. Потому что опаздывал из увольнения. Успел. Я хорошо бегал тогда.
Напрямую из роты в город позвонить было нельзя. В части была внутренняя телефонная связь. И телефонные номера состояли из трёх цифр. Городские номера были в штабе. Который наш взвод убирал по вечерам. После ужина. Штаб части к тому времени пустел. Задачей вверенного мне подразделения было помыть полы, опорожнить урны и протереть пыль в кабинетах. Ну и угостить часового у знамени сигаретой. Это было традицией.
Первым помещением для уборки был кабинет начальника части. В течение 15 минут несколько курсантов наводили там идеальный порядок. После чего я всех выгонял, садился в кресло полковника Абузярова и набирал выученный наизусть номер. На другом конце провода меня уже ждала Света. Светочка. Светуля. И мы целых 45 минут болтали с ней обо всём на свете. Каждый день.
Я несколько раз пытался подать заявление на увольнение, но ротный был непреклонен: «Нечего по городу шляться. Повышайте боевую подготовку с вверенным вам составом. И вообще, товарищ младший сержант, у вас полно залётов. Кругом, шагом марш»…
А хотелось к Свете. Не просто по телефону потрещать, а погладить, обнять. А может, что и больше получится. И у меня созрел план. Уйти в самоволку. В самовольную отлучку. В которую в нашей роте никто не ходил. Старослужащих ротный и так отпускал в увольнение. А курсанты грызли гранит военной науки, и им было не до развлечений. Да и кто бы их прикрыл?
А меня прикрыл мой товарищ. После вечерней проверки осенним субботним вечером он постоял на шухере, пока я перелезал через забор. Гражданской одежды у меня не было, поэтому в своё первое неуставное путешествие за границы части я отправился в хэбешке и сапогах. Вместо портянок были тёплые носки, форма была тщательно постирана и отглажена. И пах я одеколоном.
До дома своей зазнобы я добирался полчаса, пугаясь каждого прохожего и перебежками преодолевая перекрёстки. Добрался. Позвонил. Меня ждали. Родители были дома. Черноволосая мама с приветливой улыбкой, невысокий кряжистый отец. Посидели, поужинали. Потом мы со Светой уединились в её комнате, где целовались, целовались и целовались. Естественно, ничего более я себе не позволил. Родители были в соседней комнате.
Я так и запомнил это своё первое свидание со Светланой. Поцелуи при свете ночника и тёплые шерстяные носки, от которых было жарко и чесались ноги.
Далеко за полночь я вышел из девичьей комнаты, совершенно одуревший и счастливый. Попил чаю со Светой и её мамой. Папа, как выяснилось, уже давно спал. Я распрощался.
Светина мама протянула мне две громадные сумки.
– Вадим, возьмите с собой. Я на хлебокомбинате работаю, это оттуда.
– Да мне через забор лезть, – попробовал отказаться я, – куда я с сумками?
– Да возьмите, вас же там плохо кормят, – настаивала Светина мама, – тут карамель, булочки, пироги. Всё свежее, сегодня пеклось.
И она открыла одну из сумок. Рот у меня мгновенно наполнился слюной. Несмотря на щедрый ужин, съеденный недавно.
Взял сумки. Поцеловал Свету онемевшими губами и отправился обратно в часть. Матерясь вполголоса, еле-еле перелез через забор, перетащив с собой злосчастные сумки с едой. Подошёл к казарме. Вроде тихо.
Приоткрыв дверь, протиснулся внутрь. Дневальный, увидев меня, сделал испуганное лицо.
– Товарищ младший сержант, – сказал шёпотом, – вас ждут в сушилке.
– Кто? – удивился я.
– Старослужащие, – испуганно ответил дневальный.
«Спалили меня», – подумал я и поплёлся в сушилку. Вежливо постучался, вошёл. Два стола. Шахматы. Карты. Чай дымится в кружках. Сковородка с жареной картошкой.
Одиннадцать пар глаз уставились на меня.
– Ты совсем оборзел, что ли? – спросил первым сержант Дударев. – Год ещё не прослужил, а уже в город по ночам бегаешь.
– Я больше не буду, – промямлил я, думая о том, что меня сейчас будут бить. Больно и обидно. И стоит ли мне попытаться посопротивляться или сразу свернуться калачиком, чтобы по голове поменьше досталось.
– Конечно, не будешь, – весело проговорил здоровяк Куцый, играя мышцами на голом торсе.
– Чё в сумках? – спросил обычно невозмутимый старший сержант Шалимов.
– Да вот, тёща будущая гостинцы собрала. Для личного состава, так сказать. От гражданского населения военным специалистам, – проговорил я, чувствуя, что момент расправы отодвигается.
– Покаж, – велел Шалимов.
Я вывалил содержимое сумок на стол. Сушилка наполнилась запахом свежих булочек, карамели и ещё чем-то вкусным. Через минуту все жевали. Запивая чаем дары Светиной мамы. Кто-то подвинул мне табуретку и с полным ртом промычал: «Садись. Картофанов жареных хочешь? Ешь. Только они остыли».
Я вежливо отказался от картошки, но чай попил. Гроза миновала.
Неделя прошла в подготовке к строевому смотру и в вечерних звонках Светлане. Только разговоры у нас стали более интимные и откровенные. Она мне нравилась. Я ей, судя по всему, тоже.
В пятницу ко мне подошёл весельчак Куцый и невозмутимый Шалимов.
– В самоход завтра пойдёшь? – спросил Шалимов.
– Да я вроде не собирался, – ответил я.
– Что значит, не собирался? – удивился Куцый. – Иди и ничего не бойся. Дежурный офицер завтра Хуторянский. Он обычно из своей комнаты не вылазит. Будет сидеть и футбол смотреть. А мы тебя прикроем.
– Ну, не знаааю, – протянул я.
– Прикроем, прикроем, – подтвердил Шалимов, – и около забора подождём. Чтобы гостинцы от тёщи принять. Не переживай.
И так начались мои еженедельные походы в самоволку. Обычно по субботам. К Свете я шёл налегке. Обратно с парой сумок, набитых пирогами и баранками. А в будние дни я общался с любимой девушкой по телефону. Тяготы службы отошли на задний план. Я жил от субботы к субботе. Единственное, что меня смущало, это мой затрапезный вид. Потёртая форма и шерстяные носки в сапогах.
И поэтому я решил всё-таки исхитриться и сходить в увольнение. При полном параде предстать перед Светой.
Праздник – день Советской Армии и Военно-Морского флота – 23 февраля 1986 года выпадал на воскресенье. В пятницу на стол ротного легли заявления на увольнение. В том числе и моё. Поверх которого лежала вручную выполненная открытка. Где 1 отделение 4 взвода во главе с младшим сержантом Фёдоровым поздравляло майора Васильева с праздником 23 февраля. И желало успехов по службе и в личной жизни.
Ротный прочитал открытку, усмехнулся. Взял лежавшее под ней заявление. Расхохотался. И поставил резолюцию: разрешить до 22.00.
Вот так я в третий раз попал в увольнение спустя год с лишним после призыва на действительную военную службу.
Как я готовился к этому выходу в город! Как я готовился!..
Китель и штаны мы гладили, вымеривая стрелки по линейке. На погоны в районе лычек нанесли слой клея ПВА с блёстками. Бляха на ремне драилась сутки. В ботинки можно было смотреться, как в зеркало. Парикмахер стриг меня в течение часа. Хотя обычно он укладывался в три минуты. Я своей нервозностью и подготовкой заразил весь взвод.
В воскресенье я вышел из ворот части, козырнул патрульному и отправился в цветочный магазин. Потом к любимой девушке. Где был встречен как самый дорогой гость.
– А форма вам очень идёт, – сказала Светина мама.
– Идёт, – подтвердил отец, – прям совсем другой человек.
Мы отобедали. Потом я сходил со Светой в кинотеатр на «Зимнюю вишню». Посидели с ней в кафе. Вернулись домой.
Когда пришла пора мне возвращаться, Светлана обняла меня и прошептала на ухо: «Восьмого марта родители уезжают. Я буду одна дома. Приходи такой же красивый. Я буду твоя».
И убежала с крыльца домой. А я вышел на улицу и пошёл в родную часть. С уже ставшими обыденными двумя сумками с выпечкой.
Оставшиеся две недели я провёл в раздумьях. Как официально пойти в увольнение? Как? Сослуживцы посоветовали повторить предыдущий трюк. Но эту идею я сразу отмёл. Дарить усатому майору на 8 марта поздравительную открытку было довольно опасно. Куцый предложил подписать открытку жене Васильева и двум его дочерям, но я так рисковать тоже не стал.
В итоге решил действовать напрямую. Зашёл в кабинет ротного, представился. Положил на стол увольнительную записку.
– Товарищ майор, очень надо в город в этот день, – осипшим от волнения голосом начал я, – вот именно в этот день. Потом до конца службы меня за ворота части можете не выпускать.
Васильев поднял на меня глаза. Усы его грозно шевельнулись.
– А не часто ли вы в увольнение в последнее время ходите, Фёдоров? – спросил.
– Часто, – отозвался я, – третий раз с начала службы. Мне к девушке надо.
– К кому? – взревел ротный.
– К девушке, – окончательно осипнув, сказал я.
Как потом выяснилось, именно накануне 8 марта наш ротный узнал, что его старшая незамужняя дочь беременна. И тут я со своей просьбой.
– Два наряда вне очереди, – перегнувшись ко мне через стол, проорал майор Васильев, – даже нет, не два, а три наряда. Подряд.
– Есть три наряда вне очереди, – уже почти шепотом просипел я, – разрешите идти?
– Идите, товарищ младший сержант, всего-навсего, – прорычал Васильев, – заступайте в наряд сегодня же вместо Гаглоева. И завтра тоже. И послезавтра. Три дня подряд. Чтобы к девушкам не хотелось. Наверняка.
Я отдал честь, развернулся и, печатая шаг, вышел из кабинета ротного. Строевым шагом под изумлённые взгляды сослуживцев прошагал через всю казарму. Вошёл к старшине роты в каптёрку и доложил, что мне через полчаса заступать в наряд. На трое суток. Прапорщик Пилипенко крякнул, посмотрел на меня жалостливо и спросил: «Ты чего опять такого сделал, что ротного даже здесь слышно было?»
– Я сказал этому садисту, что хочу в город, к девушке, – ответил я, – а он как-то странно прореагировал.
– Про девушку это ты зря сказал, – сказал мне Прапорщик Пилипенко и поведал историю про беременность майорской дочери.
А потом я с нарядом сходил на развод. Потом были сутки дежурства. Потом были вторые сутки. Хотелось спать. И хотелось не думать о том, что где-то недалеко сидит девушка по имени Света и ждёт меня. А её родителей нет дома.
В понедельник вечером я сдал дежурство. На ощупь нашёл свою койку и рухнул в одежде, успев только снять сапоги. Проспал почти сутки. Пилипенко запретил меня будить и велел занавесить кровать простынёй. Я проснулся во вторник после обеда. Сходил с ротой в столовую. Дождался вечера.
После ужина пришёл в штаб. Дождался, когда убрали кабинет командира части. Закрыл за собой дверь. Сел на краешек кресла, на котором раньше сидел развалясь. Набрал знакомый номер.
– Здравствуй, это я, – сказал в трубку.
– Здравствуй, – отозвался знакомый голос.
– Я хочу объяснить, – прошептал я.
– Не надо ничего объяснять, – ответили в трубке. Вроде тот же голос, но уже какой-то незнакомый.
– Хорошо, – сказал я.
– Прощай, – сказали в трубке.
И раздались гудки.
– Маме привет передавай, – сказал я гудкам, – и спасибо ей большое за гостинцы. От всего сержантского состава первой роты войсковой части 20115.
Я осторожно положил трубку. Вышел из кабинета. Прошёлся по штабу. Вышел на улицу. Уборка уже была закончена. В курилке тусовался народ, дымя сигаретами Ява.
Ещё лежал снег, но уже пахло весной. Моей последней весной в армии.
Я поднял голову и весело заорал в мартовское серое небо: «Четвёртый взвод, в колонну по четыре становись!»
Гауптвахта
В армии я прослужил ровно 25 месяцев. Без отпуска. Два года и один месяц. С ноября 85-го по декабрь 87-го. 760 дней.
Из них двое суток я провёл в одиночной камере на гауптвахте. Или по-простому – на губе.
Я уже прослужил полтора года. Считался старослужащим. А тут в нашу роту прислали трёх молодых лейтенантов. Только-только из военного училища. Один из них стал заместителем командира роты по политической части. Была такая должность в Вооружённых силах Советского Союза.
И вот с этим-то молодым замполитом по фамилии Фадин и случился у меня конфликт. А дело было так.
Как-то дежурил наш молодой замполит по роте. И вечером заглянул в каптёрку. Где и застал рядового Пилипенко, самозабвенно раскрашивающего мой дембельский альбом.
– Красиво, – похвалил замполит рядового, – а чей это альбом?
– Младшего сержанта Фёдорова, – бодро отрапортовал Пилипенко.
Замполит послал за мной. Я пришёл.
– Почему вы заставляете вашего подчинённого рисовать вам альбом? – спросил меня замполит.
– Я не заставляю, – ответил я, – просто попросил.
– Попросил, – поддакнул Пилипенко, – и я сам вызвался.
Веснушчатое лицо замполита покраснело. Было видно, что он разозлился.
– Это использование служебного положения, – отчеканил он, – рядовой должен заниматься военной подготовкой.
– Вообще-то, сейчас вечер, – напомнил я лейтенанту.
– Значит, у него свободное время, – ответил замполит, – вот пусть и занимается своими делами.
– Вообще-то, сейчас по расписанию уборка прилегающей территории, – опять напомнил я лейтенанту, – а вверенная территория у нашего четвёртого взвода – это оружейная комната, коридор, умывальник и туалет. Пилипенко, твои три крайних от окна унитаза. Отодрать их так, чтобы блестели как зеркало. Через час проверю.
Пилипенко поник.
– За что? – трагическим шёпотом спросил он. – Я же ничего не сделал плохого.
– Во-первых, приказы не обсуждаются, – сказал я, – а во-вторых, если ты что-то рисуешь, то ни в коем случае не должен попадаться на глаза офицерам. Ты должен слиться с местностью, чтобы никакой лейтенант или капитан, а уж тем более майор, тебя не заметил. Как хамелеон. Так что иди и сливайся с унитазами.
– Есть сливаться с унитазами, – ответил Пилипенко и повернулся, чтобы идти выполнять моё распоряжение.
– Отставить унитазы, – вдруг заорал замполит, – вы что, товарищ младший сержант, издеваетесь надо мной?!
– Никак нет, – гаркнул я, – выполняю свои прямые обязанности.
– Ты сейчас сам пойдёшь унитазы чистить! – продолжал кричать Фадин.
– А чего это вы на ты перешли? – осведомился я. – Мы с вами, товарищ лейтенант, вместе не пили. Да и не буду я унитазы чистить. Вы не мой прямой начальник.
Лицо у замполита приобрело пунцовый оттенок. Глаза налились кровью. Он был прекрасен в гневе. 5 лет он учился. И вот наконец-то предстала возможность проявить свои таланты и покомандовать всласть.
– Мне-то что делать? – прервал паузу несчастный Пилипенко.
– Идите отдыхать, – скомандовал ему Фадин.
Пилипенко выдохнул «есть», развернулся и вышел из каптёрки.
– Товарищ лейтенант, – миролюбиво начал я, – ну что вы из-за пустяка так волнуетесь?
– Вы используете личный состав в личных целях, – отчеканил замполит.
– Хорошо, – так же миролюбиво продолжил я, – две недели назад у ротного сгорела проводка в квартире. Я с бойцом из второго взвода там целый день проторчал. Всё починили. И никто про личные цели ничего не говорил. Наоборот. Все были довольны. У ротного новая проводка. Мы от службы отдохнули. А какие пирожки жена ротного печёт! Пальчики оближешь.
И я блаженно улыбнулся, вспомнив вкус горячего повидла.
– Дорасти вначале до ротного, сопляк, – прошипел замполит, – тогда и поговорим.
– Зачем мне куда-то расти? – удивился я. – Я через несколько месяцев домой поеду.
– Поедешь, но без альбома, – сказал замполит.
– Послушай, Фадин, – я тоже перешёл на ты, – у нас разница два года. Чего ты тут из себя начальника корчишь? То, что у тебя на погонах две звёздочки, а у меня две полоски? Ну и что? Зачем из мухи слона раздувать?
– На вы ко мне обращаться надо, и не по фамилии, а по званию, – сказал замполит.
И тут моё терпение кончилось. Я подошёл вплотную к Фадину. Он отступил на шаг назад.
– Товарищ лейтенант, – отчеканил я, – идите на…
И я послал нашего замполита по матушке. Тот мгновенно побледнел. Открыл рот, чтобы что-то сказать. Но не успел.
– Ещё слово, и я вам морду набью, товарищ лейтенант, всего-навсего, – пообещал я вполголоса.
Фадин подавился несказанными словами, развернулся и выскочил из каптёрки. Позже выяснилось, что он побежал жаловаться.
Едва я успел спрятать свой дембельский альбом, как меня вызвали. К ротному, к майору Васильеву.
Я прибыл. Доложил о том, что прибыл. В комнате, кроме ротного, были Фадин, старшина и мой командир взвода.
Майор Васильев был краток.
– Ты, Фёдоров, совсем охренел, – сказал он, – хамишь, про какую-то сгоревшую проводку рассказываешь. Угрожаешь замполиту физической расправой.
– Виноват, товарищ майор, – громко и по слогам отрапортовал я.
– Виноват, – кивнул Васильев, – ещё как виноват. Сержантский состав у нас совсем уже от рук отбился. Один на зарядке с магнитофоном бегает. Второй вот матом офицеров обкладывает. Двое суток ареста.
– Есть двое суток ареста, – так же громко проорал я.
Стоящий в углу комнаты старшина крякнул.
– А за что ему арест выписывать? – спросил он. – За мат или за угрозу замполиту?
– Да вы с ума сошли, – ротный аж поперхнулся, – нас за такую формулировку самих на двое суток упекут. Запиши: за нарушение формы одежды. Вон, верхний крючок у него на хэбэшке расстёгнут. Не по уставу.
Вот так я нежданно-негаданно получил первый и последний раз в жизни двое суток ареста.
– Там постельного белья нет, – предупредил меня старшина, когда мы остались одни, – шинель с собой возьми.
– Спасибо, – поблагодарил я и отправился собираться.
Кроме шинели я взял с собой вещмешок. Куда положил два блока сигарет, туалетные принадлежности. И стопку книг. Чтобы использовать их вместо подушки.
В последний момент мой приятель притащил журнал «Юность».
– Тут про дембелей повесть, – сказал он мне, – про нас. «Сто дней до приказа» называется.
Я поблагодарил его. Накинул вещмешок на спину, сложенную шинель взял под мышку и пошёл к выходу, где меня уже ждал старшина.
– Товарищ младший сержант, ваше приказание выполнено, – перехватил меня на выходе Пилипенко, – унитазы чистые.
– Молодец, – похвалил я его, – завтра начинай учиться сливаться с местностью. Альбом в отсеке с сапогами спрятан.
Стоявший рядом старшина хмыкнул.
– Пошли, арестант, – сказал он, – будешь сливаться с гауптвахтой. Целых два дня.
И мы пошли. К караульному помещению. Где наш старшина передал меня с рук на руки невыспавшемуся старшему лейтенанту.
– А чего с шинелью? – спросил старлей. – Не положено.
– Согласно Уставу караульной службы в тёмное время суток можно, – ответил я.
Память в те годы у меня была великолепная. Я наизусть знал все четыре Устава.
Старлей хмыкнул, сходил не торопясь за Уставом. Нашёл нужную статью.
– Действительно, можно, – согласился он, – заходи тогда. В одиночную камеру. Курево в камеру хранения.
Камера представляла из себя помещение размерами два на три метра. Стены были отделаны цементом в стиле «шуба». И покрашены серой краской. Окошко было под самым потолком. Закрытое решёткой. Светильник располагался там же. На высоте трёх метров. К одной из стен были пристёгнуты нары. В двери было небольшое окошко, открывающееся снаружи.
Я бросил в угол шинель и книги. Потянулся. Ближайшие двое суток никакой казармы. Никаких рядовых, построений и проверок, нарядов и занятий. Я был один.
– Аллё, боец, – раздалось из соседней камеры, – кого к нам подселили?
– Из первой роты сержанта, – ответил часовой.
– А у меня кто соседи? – поинтересовался я, вплотную прильнув к двери.
– С автороты мы, – раздался голос, – за пьянку по трое суток схлопотали. Курить есть?
– У первой роты всё есть, – проворчал я и позвал часового: – Боец, в камере хранения мои сигареты. Достань пачку. По сигарете соседям, мне одну и себя не забудь.
– Не имею права, – ответил часовой.
– Молодец, – похвалил я его, – тогда позови разводящего или помощника начальника караула. Имею право позвать.
Часовой промолчал, но мою просьбу исполнил. Разводящий появился тут же. Караульное помещение примыкало к гауптвахте, и дойти до нас было делом одной минуты.
В течение нашего короткого разговора с разводящим мы нашли общих знакомых, поговорили о погоде и о грядущем дембеле. Разводящему предстояло служить ещё год.
– Земляк, – попросил я его, – проинструктируй своих часовых, чтобы сигаретками меня снабжали. Я там себе два блока притащил. В камере хранения лежат.
Камерой хранения назывался огромный железный шкаф, стоящий в коридоре гауптвахты. Ключ от него был у начальника караула. В шкаф складывались личные вещи арестованных, которыми они не могли пользоваться в камерах. В данный момент на верхней полке лежали мои сигареты.
– Так он же закрыт, – сказал разводящий.
– Отодвигаешь его от стены и снимаешь заднюю стенку, – подсказал я, – это ещё с прошлого года работает. Делюсь.
Разводящий проинструктировал часового и выдал мне и моим товарищам по несчастью по сигарете. Свою я скурил, пуская дым в замочную скважину. Потом через дырку в двери отдал окурок часовому.
Жизнь постепенно налаживалась.
На ужин нам принесли из столовой остатки варёной картошки и салат, который в быту мы называли мастика. От него была изжога и тяжесть в желудке. Во время ужина я и познакомился с соседями-алкоголиками.
Один рядовой и два ефрейтора накануне раздобыли где-то две бутылки водки и выпили её. Уютно расположившись в кабине ЗИЛ-130, водителем которого являлся один из ефрейторов. Там-то их и поймал командир взвода. Поймал и влепил трое суток.
– А тебя-то за что? – спросили они меня, поведав свою историю.
– А у меня статья политическая, – многозначительно сказал я, – с замполитом не сошёлся во мнении на организацию досуга личного состава.
Авторотовцы с уважением посмотрели на меня. Я же попросил послать весточку в мою роту с просьбой притащить чего-нибудь поесть. Если в столовой мастика была ещё съедобной, то, остывшая и заветренная, здесь она в качестве еды никак не годилась.
Вечером мне откинули нары. Я постелил шинель, положил под голову стопку книг и уснул. Было жестковато, но зато тихо.
Утром нары пристегнули обратно. Я умылся, привёл себя в порядок.
На завтрак мои товарищи по роте прислали банку тушёнки и банку сгущёнки. Которыми я великодушно поделился с тремя соседями из автороты. Досталось угощение и часовому. Мой авторитет поднялся до небес.
От получасовой прогулки во дворе я отказался.
– Сидеть так сидеть, – сказал я и забился в уголок читать повесть Полякова. До обеда я с ней справился. Повесть мне очень понравилась. И я передал журнал через часового авторотовцам. Для культурного просвещения.
Делать было нечего. Абсолютно. И я наслаждался этим. Сидел в уголке и листал принесённые с собой книги. Или смотрел в потолок и мечтал о гражданской жизни. Целый день. До самого вечера.