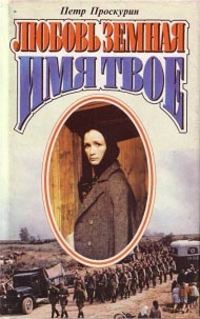
Имя твое

Петр Проскурин
Имя твое
КНИГА ПЕРВАЯ
БЕЛАЯ СНЕЖЕТЬ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Большая, уходящая к реке поляна была окружена старыми, свесившими ветви до самой земли березами и покрыта крупными лесными ромашками в мелкой алмазной росе; с каким-то боязливым восхищением Аленка осторожно прикоснулась к зеленому суставчатому стебельку; на нем, слегка пригнувшись, красовался белый, как кипень, глазастый цветок. Со всех сторон слышались птичьи голоса – тиликанье синиц, нежный перезвон жаворонков, звонкоголосые трели иволги и еще какие-то чмокающие звуки; их природу Аленка определить не могла. Оторвавшись от ромашек, Аленка прислушалась, она сейчас была в огромном мире, и это было непривычно и странно; как она ни крепилась, глаза ее наполнялись слезами.
– Тоже хочу счастья, – прошептала она, вспомнив что-то полузабытое, очень родное. – Чуть-чуть, одну капельку… не на всю жизнь… совсем немного, вот как это утро… оно ведь тоже пройдет. Господи, дай мне ребенка… не много прошу… ребенка… Господи, дай мне ребенка… Все остальное – другим, все остальное не нужно. Господи, дай мне ребенка!
Захваченная одной своей мыслью, Аленка тихо брела через просторную поляну, оставляя в росной траве темный широкий след, чувствуя в себе опять дыхание чего-то неизвестного, пугающего своей неопределенностью, бросающего ее из стороны в сторону; как и раньше в такие минуты, с нее словно спадало все, оставалось лишь что-то темное, нерассуждающее, мохнатое, глубоко запрятанное, со дна души поднимался безотчетный страх, смутное ожидание чего-то. Она еще пыталась бороться с этим своим настроением, но оно ее одолевало, и она забивалась все дальше и дальше в глушь, больше всего опасаясь кого-нибудь встретить…
С наслаждением ступая босыми ногами в мягкой, шелковистой траве и стараясь не задевать ромашки, Аленка шла цветущей, сверкающей поляной; для нее сейчас не было ни мужа, ни родных, вообще не было людей, была лишь одна она и лес – чуткий, добрый, сказочный, беспредельный, способный вместить в себя все, от начала до конца. И мыслей у нее, и желаний, кроме одного-единственного, всепоглощающего желания иметь ребенка, никаких не было, ей лишь хотелось чего-то необычного, может быть, сорвать с себя всю одежду, броситься в свежую, прохладную реку, зарыться лицом в обрызганные росой ромашки. Ей вспомнились полузабытые рассказы бабушки Авдотьи, как на зорях, распустив волосы, ведьмы собирают росу в ведра, приманивая к своим коровам и отнимая у чужих молоко. Что ж такого, сказала она себе, ведьмам и не такое позволено.
Все с тем же озорным чувством она смутно припомнила, как еще бабка Авдотья рассказывала своим подругам, таким же старухам, таинственно оглядываясь на притихшую с книжкой внучку и понижая голос, что молодые мужики и бабы, которые непременно хотят родить сына, ходят под троицын день на Чертов курган и купаются там в росе… Аленке ясно послышался пришепетывающий говорок бабки Авдотьи, рассказывающей про загадочный Чертов курган в ночь под троицу и купающихся в росе мужиков и баб. Томительный жар прихлынул, разгорелся во всем теле от этого странного, первобытного желания сорвать с себя одежду и поваляться на росной, прохладной траве. Птицы были не в счет; хрустальная, прозрачная тишина заполняла мир; березы свесились в зеленых, ниспадающих с них потоках листвы до самой земли. От этой немыслимой тишины и согласности, что жила вокруг нее, в душе родился первый слабый отзвук, первое ответное движение. Чувство это крепло, и вот уже какое-то далекое, все усиливающееся журчание не то лесного ручья, не то просто знакомой мелодии зазвучало в ней. «Да что же это я? – не то подумала, не то вслух спросила она. – Что же это я счастья выпрашиваю? Видеть все это… знать все… можно лицом прижаться к мокрым листьям… броситься в росу, – захлестывало Аленку все то же ошалелое буйство, – поваляться… да это же дерзость – еще чего-то просить… Как хорошо… Грешно, грешно ждать от жизни еще чего-то, от этого даже как-то перед собой стыдно, от войны осталась цела, муж есть, мать с отцом живы, вот стану врачом, буду лечить, помогать людям, чего же еще? Чего?»
Слова, которыми она пыталась вразумить себя, захлебывались, тонули в хаосе самых противоречивых, переполнявших душу чувств, обжигающая волна несла ее по самому гребню.
«Так что же я такое и зачем я, если я ничего не могу понять и даже не знаю, чего хочу и почему я такая? – снова спросила себя Аленка. – Да, у меня есть все, что нужно… муж есть, люди вокруг есть… но отчего мне так страшно сейчас? Значит, все, что есть у меня, никакое не счастье… Почему мне так страшно? Господи, дай мне ребенка… маленького, беспомощного малыша… Господи, дай…»
Не доходя до стены берез, она остановилась, пораженная мыслью, что кружила на одном месте и, оказывается, не сдвинулась ни на шаг. Трава у края поляны поднималась все выше, доставала ей теперь до груди; солнце только-только показалось в небе, выплыло из-за далекого горизонта, и вершины берез, пронизанные его первыми, острыми, стремительными лучами, словно в один момент вспыхнули внутренним трепетным огнем, превращаясь в радостную, волшебную сказку из непрерывно меняющих свои очертания, каких-то таинственных, неведомых, призрачных городов и замков, хребтов неведомых гор и заполненных разреженными голубоватыми туманами провалов. Молочная, ставшая от солнца седой роса покрывала траву густо, концы листьев и стеблей под ее тяжестью свесились до земли; Аленка завороженно молчала. «Что это такое?» – подумала она, не в силах долее сдерживаться, чувствуя властный, непреодолимый зов этого сверкающего мира; чтобы добраться до берез, нужно было пройти море отяжелевшей от росы высокой травы. «Вымокну до нитки», – радостно решила она и, подчиняясь давешнему желанию, разделась донага и, свернув одежду в узел, подняла ее повыше и, ахнув от наслаждения, пошла, сразу скрывшись в траве чуть ли не с головой. Прохладная роса обожгла тело; Аленка, еще раз охнув, тихо возбужденно засмеялась, крепко зажмурилась и зарыла в траву лицо. Запах травы был свеж, почти неуловим, но он тотчас проник всюду, и во рту появилось ощущение свежей зеленой прохлады. Она пошла дальше, уже не опасаясь, и с каждым шагом на нее обрушивался новый росный дождь, роса скатывалась с нее ручьями, с лица, с маленьких, тугих сосков. В теле появилось тоже что-то тугое, звериное; она совсем перестала ощущать его – таким оно стало стремительным и легким; сейчас она ляжет в траву и останется здесь навсегда, но эта мысль лишь мелькнула; звенящая, обжигающая волна по-прежнему несла ее, и Аленке теперь казалось, что она не идет, а летит, летит вместе с травой, с лесом, вместе с землей и солнцем, и это ощущение полета, какой то немереной высоты было столь явственно, что она затаила дыхание, ей показалось, что поток встречного ветра бьет ей в лицо и грудь. Она выбежала к березам, речка сонно поблескивала в низких травянистых берегах; вода слегка парила, дымилась, и березы, росшие по обоим ее берегам, почти свешивались к самой воде, отражаясь в ней солнечными, дымящимися зелеными купами. «Красота, красота какая, – подумала Аленка, – я же совсем все это забыла…»
Она положила одежду у одной из берез и тихонько вошла в реку, ощущая ступнями чистое песчаное дно, слегка тронутое мелкими водорослями. Когда вода дошла ей до пояса, она прикрыла грудь руками, присела и, упруго пошлепывая длинными, сильными ногами, поплыла к противоположному берегу; на середине чувствовалось слабое течение, и Аленка, перевернувшись на спину, долго лежала, глядя в беспредельное, без единого облачка, небо, уже наполнившееся солнцем. Прилетела большая, с синеватым отливом прозрачных крыльев, стрекоза, повисла над самым ее лицом; Аленка затаила дыхание, и стрекоза нерешительно опустилась ей на лоб. Прикосновения ее маленьких лапок и тонкого членистого брюшка Аленка не вытерпела, моргнула, и стрекоза тотчас вспорхнула. Аленка засмеялась, брызнула ей вслед водой, испуганно примолкла, затем долго плавала, погружая в воду лицо с открытыми глазами и разглядывая заросшее зелеными текучими травами дно и снующих в водорослях маленьких рыбок. Под водой был свой мир, свой строгий порядок; Аленка подумала, что он никогда не нарушится, будь или не будь она на свете вообще; на середине реки, где уже лежала густая полоса солнца и под водой было светло и празднично, тихое течение замечалось по еле-еле шевелившимся верхушкам водяных трав, а когда она приближалась к затененному берегу, свет и под водой менялся, между полускрытыми слоем ила корягами чудились глубокие провалы, заполненные тьмой и тайнами. На песчаной отмели Аленка заметила большого темного рака, осторожно ползущего по дну и шевелящего усами; тень от тела Аленки коснулась его, и он тут же захлопал хвостом и мгновенно куда то исчез; Аленка напрасно искала его, обшаривая дно глазами. «Интересно было бы пожить, как этот рак, – подумала Аленка, становясь на дно отмели. – Совершенно никого кругом… и сам куда-то исчез… пугливый какой…»
Подождав, чтобы вода успокоилась, она опять стала присматриваться и увидела широко разметавшийся куст водорослей с длинными узкими листьями, в нем сновали мелкие серебристые рыбки; их движение было похоже на затейливый танец. Каждая из рыбок несколько мгновений стояла на месте, едва трепеща хвостиком, затем стремительно бросалась вперед на десяток-другой сантиметров и опять застывала. Рыбок много, и передвигались они неожиданными скачками в самые разные стороны, не покидая, однако, пределов просторного куста водорослей, и у Аленки возникло ощущение непрерывного, радостного, ликующего движения. Стараясь не шевелиться, она следила за ритмическим танцем маленьких рыбок, никак не хотевших отдаляться от своего куста. «Ну, еще немного тут побуду и поплыву к берегу», – решила Аленка, и оттого, что перед ней была все та же знакомая картина, все тот же бесхитростный танец, она засмеялась от удовольствия. И как раз в это время черная тень стремительно метнулась к самой сердцевине танца, между стеблей водорослей. В последнюю секунду Аленка разобрала, что это жук-плавунец, схвативший одну из маленьких рыбок и хищно вцепившийся ей в хребет чуть пониже головы. «Ах ты, проклятый живодер», – возмутилась Аленка; пытаясь помешать, она ринулась вниз, и тотчас все изменилось: стройный порядок рассыпался, рыбки исчезли, и жук исчез. Аленка вынырнула, быстро подплыла к берегу, выбрала место и долго грелась, подставляя солнцу то грудь, то спину; затем, подстелив платье, легла на него в траву, успевшую обсохнуть. Остывшее тело жадно впитывало солнечный свет и тепло, и Аленка блаженно щурилась; вскоре и водяной хищник забылся, и связанное с ним неприятное чувство. Что-то мешавшее и томившее ее все последние дни сменилось блаженным забытьём, и она задремала все в том же ощущении, что все ее тело, нагреваясь, наполняется покоем и солнцем.
* * *Солнце стояло уже высоко, и Аленка поняла, что проспала несколько часов. В лесу поднялся слабый ветер; чуткие вершины берез были как бы слегка завернуты в одну сторону, лес тихо и дружно гудел. Аленке не хотелось вставать, она лишь лениво отодвинулась в тень. То, что с нею было на заре, на восходе солнца, развеялось; лишь в коже оставалась, сохранялась память о жгущей, прохладно скатывающейся по телу росе, и снова прихлынули расплывчатые, бесформенные видения каких-то ускользающих воспоминаний. Помнится, бабушка Авдотья, покойница, говорила, что у любого древа есть глаза, и уши, и сердце, потому что оно тоже живое, и видит, и слышит, и душой в самую середину матушки-земли вплетено. «Вот оттуда все, от землицы, идет, – снова в ушах Аленки зазвучал мягкий, быстрый старушечий говорок, и сердце, как в детстве, во вьюжную зимнюю ночь на печи, сладко сжималось и ныло, – А еще в любом древе, в любом кустике, и травке своя совесть есть, – учила внучку бабушка Авдотья. – Доброго человека от злого тотчас любой листок отличит – от злого отмахнется, а к доброму прильнет». И тут же в подтверждение своих слов бабушка рассказывала, как бежал от людского суда некрещеный злодей, в какую бы чащобу ни забивался, нигде не мог найти себе пристанища, потому что и дни, и ночи на его пути начинали кружиться и кричать птицы, и на земле каждый его шаг сторожили звери, и там, где он проходил, листья и ветки отмахивались от него, а реки, ручьи и озера, как только он хотел напиться, тотчас уходили в землю. И потому, сколько бы он ни бежал, все ему казалось, что кругом бесплодная пустыня. «Вот господь бог какую определил ему лютую муку, – скорбно качала головой бабушка Авдотья, – из года в год, из века в век, вплоть до Страшного суда, бежать по земле сквозь леса и воды, средь людских и звериных скопищ, бежать и с терзаниями утробы не напиться воды, не вкусить хлеба, потому что не мог он прикоснуться ни к чему живому, все по слову божию отшатывалось от него. Вот и кружит злодей из века в век по земле, ждет судного дня…»
До удивительного ясно Аленка представила себе небольшое, ссохшееся лицо бабушки Авдотьи, ей даже показалось, что на голову легла сухонькая, легкая, пахнущая какими-то неведомыми травами старушечья ладошка. Блаженно съежившись, Аленка прикрыла глаза. «Каким же надо быть злодеем, чтобы получить такое наказание», – подумала она, вскочив на ноги. Сейчас она верила, что деревья и трава имеют глаза, и уши, и душу; она забралась под старую березу, в зелень ее листвы, свесившейся и перепутавшейся с травой; ее белое, слегка прихваченное солнцем тело сверкало в зеленых, струящихся под ветром потоках. Она перебежала к другой березе; да, теперь она была уверена, что эти белоствольные, с черными многочисленными глазками деревья все видят и все чувствуют, но ей нечего было скрывать, нечего бояться; листва берез, теплыми, уже нагретыми потоками стекая по ее телу, ласкалась, щекотала кожу; и в душе у нее по-прежнему происходило необъяснимое зеленое и солнечное таинство, словно она сама сейчас переставала быть человеком, а растворялась в этом зеленом буйстве, незаметно, исподволь, переливалась в душу леса. Какой-то теплый, сладостный ток установился между нею и шелестящей, сверкающей вокруг зеленью; и она уже не чувствует себя, и уже вся куда-то переносится, и вот уже смотрит в мир, и все видит из тела дерева, и все видит по-иному. «Как интересно, боже мой, как страшно», – сказала она и потекла уже куда-то вниз, к корням, в таинственные глубины земли, и ей действительно стало страшно, и она заставила себя выбежать из-под березы на солнце, на открытое пространство; ей показалось, что в последний момент зеленые льющиеся потоки листвы, словно пытаясь удержать, метнулись следом.
Уже было жарко, но Аленка теперь почему-то боялась еще раз искупаться; быстро одевшись, она села на открытом месте и стала под легким ветерком расчесываться. Ей захотелось поскорее добежать до Густищ, увидеть мать, поговорить с ней по-бабьи бестолково обо всем на свете. «Все-таки жизнь очень странная, – подумала она. – Вот Брюханов думает, что хорошо знает меня, а ведь он меня совсем не знает, так, чуть-чуть. Я сама тоже, конечно, его по-настоящему не знаю, я как-то никогда и не стремилась узнать его глубже, все занята сама собой. Все глупости, конечно, ношусь с собой, как с каким-то дивом, а ведь самая обычная дура баба, эгоистка, а он меня все оберегает, все краем норовит провести, все стороной, а ведь у него работа какая – область тянет. Может, поэтому последнее время и появился между нами этот настораживающий холодок? О чем это он вчера говорил? Уже ночью… Чуть-чуть ночник горел… вот тебе, пожалуйста, пример эгоизма, ведь, помнится, что-то важное говорил, что то связанное с Москвой, с поездкой… А я… Да что я?»
Опять начинался приступ тоски, и все казалось ненужным, все не имело значения и было лишено смысла: и слова Брюханова, и далекая Москва, и они сами… Зря он ее так оберегает от всего трудного, неприятного; сама того не замечая, она уже привычно начинает чувствовать себя под уютным колпаком, отгораживающим ее от остального мира. Плохо это очень. «О чем же он все-таки говорил, уезжая на очередной пленум ЦК? – опять попыталась вспомнить Аленка. – Какая-то перестановка, Москва, завод… Еще что-то… Ах, да, – обрадовалась она, – Чубарев! Именно Чубарев, он снова назначен директором Зежского моторного и скоро должен приехать в Холмск…»
Теперь Аленка вспомнила и радость мужа, и какую-то его скрытую тревогу; ей припомнились прежние рассказы мужа о Чубареве, о строительстве моторного еще до войны, о том, как по иронии судьбы в начале войны ему, Брюханову, пришлось этот моторный взрывать. Все это сейчас схватилось в памяти; дубина она все-таки – не почувствовать в нетерпеливых интонациях мужа, в его дрогнувшем голосе, в сбивчивом рассказе, что он волнуется, готовится и к пленуму, и к встрече с этим Чубаревым, как к трудному экзамену, – видимо, Чубарев человек действительно необыкновенный, самобытный…
Обманутые ее неподвижностью, на воду сели два селезня с синевато-темными квадратиками на крыльях и таким же радужным оперением головы, но, почувствовав опасность, круто срезая угол, поплыли к противоположному берегу.
Глядя на воду, упруго расходившуюся острым углом от плывущих селезней, Аленка ощутила источник беды, какой-то опасности в ней самой, и никто этого не знал, кроме нее. Нет, решительно нужно себя переменить, совсем-совсем начать все сначала, подумала она, резко встала, и тотчас селезни легко, словно кем-то сильно подброшенные, снялись с воды и растаяли в просвете между березами. Ветер еще усилился. Струящаяся зелень берез, как неохватная, необозримая зеленая река в неровно шевелящихся солнечных пятнах, стремилась, текла в одном направлении согласно и ровно. День уже разгорелся, зной упал на лес, на травы, и они запахли лениво и пряно, совсем иначе, чем на заре, когда держалась густая роса. Аленка вздохнула от своих мыслей, легко оторвалась от нагретой земли и шагнула в густой солнечный свет.
2
Чубарев, срочно вызванный в Москву с Урала, со своего оборонного номерного завода, ставшего в годы войны родным и необходимым, не отрывал глаз от пушистых, плывущих в стеклах машины в солнечной голубизне деревьев, от улиц и тротуаров, заполненных оживленными людскими потоками; Чубареву было ясно и радостно на душе; к вечеру, оказавшись в приемной одного из секретарей ЦК, он с трудом стряхнул с себя очарование праздничности дня и сразу отяжелел, на виске глухо забилась какая-то жилка, но ничего особенного так и не произошло; предстоящий разговор по какой-то причине затягивался, и когда он состоялся наконец, Чубарев почувствовал заметное облегчение, хотя знал все заранее и давно был подготовлен к предстоящим переменам, к возвращению на Зежский авиамоторный завод. Не застав жены в своем просторном гостиничном номере, запиской сообщавшей ему, что она скоро вернется, он даже рассердился на себя, что весь день не давал себе покоя, задумавшись над тем, что предстоящие перемены привнесут в его жизнь, и кто из старых знакомых в Холмске остался, и кого он встретит вновь. Больше всего он думал о Брюханове, и хотя предполагал, что тот может быть ввиду предстоящего пленума ЦК в Москве, но, конечно, не мог знать, что именно в этот час и даже в эти минуты Брюханов находился в приемной Сталина и, пытаясь успокоиться, заставлял себя дышать ровнее и медленнее, но во всем происходящем помимо его воли отчетливо проступала звенящая, пронзительная нота. И за годы войны, и в послевоенные годы Брюханов привык к экстренным совещаниям и вызовам в Москву, дважды был на совещаниях и у Сталина и на последнем совещании резко говорил по поводу неувязок с поставками сталей необходимого качества для моторного. Он сам удивлялся потом своей смелости, но сталь после этого шла некоторое время в нужных количествах и именно тех марок, которые требовались заводу. Но сейчас, с той самой минуты, как он после пленума был приглашен к Сталину, Брюханов волновался, как мальчишка, потому что не знал причины и не мог хотя бы мысленно ее предугадать.
В приемной ждали еще четверо, они были знакомы, и, очевидно, очень коротко, между собой – по каким-то неуловимым приметам это было заметно, – но держались они напряженно и собранно, лишь изредка перебрасываясь вполголоса словом-другим; в дальнем углу, рядом с дверью в кабинет Сталина, углубился за своим столом в какие-то бумаги Поскребышев. Брюханов принялся рассматривать отполированное, чистое дерево панелей, пытаясь сосредоточиться на собственных мыслях; уже в кабинете у Сталина, с должной осторожностью пожимая протянутую ему руку, он по характерному, живому, уже знакомому ему прищуру глаз безошибочно ощутил, что ничего плохого для него не будет, и внутренне успокоился. Сталин спросил о самочувствии и, внимательно выслушав, мягко прошелся по кабинету, что-то обдумывая, по всей вероятности, что-то совершенно не связанное с гостем. Остановившись перед Брюхановым, он в упор посмотрел на него.
– Широкие и смелые люди мне, товарищ Брюханов, нравятся, – сказал Сталин уже на ходу, – но мне кажется, вы проявляете сейчас излишнюю требовательность. Разорена войной не только Холмская или соседние с ней области. Кроме того, есть первоочередные государственные задачи. Именно туда мы бросаем и будем бросать все, что возможно.
С первых же слов Сталина Брюханов понял, в чем дело, хотя на ходатайстве с просьбой об увеличении, хотя бы удвоении, средств на восстановление Холмска вообще не было его, Брюханова, подписи, но это, конечно, не значило, что это сделано без его, Брюханова, ведома или согласия, но также сразу ему стало ясно и то, что главная причина его вызова не в этом, что это лишь внешний предлог. Руководствуясь все тем же особым внутренним настроем, Брюханов твердо знал, что нужно всего лишь не пропускать ни одного слова из того, что ему говорили. Ответов, возражений или оправданий совершенно не требовалось, ему просто, без всякой маскировки, указывали, в чем он ошибался и как должен вести себя дальше.
Брюханов молчал; что-то опять подсказывало, что в разговор вступать не следовало, тем более что сейчас ему был просто преподан еще один урок диалектики и в то же время неумолимо предписывались дальнейшие шаги, тем более что и сам Сталин, этот заметно стареющий человек, не ждал от Брюханова сейчас никакого ответа, ему, пожалуй, и мысли такой, что здесь, в этом ясном деле, можно возражать, не приходило.
– Вы знаете, товарищ Брюханов, к вам на моторный перебрасывается Чубарев, – круто повернул разговор Сталин. – Муравьев не оправдал ожиданий. Товарищи допустили ошибку, рекомендовав его на такое горячее, всегда требующее немедленных решений дело. Вы довольны?
Брюханов еще с первой встречи в сорок втором отметил про себя и запомнил, что Сталин, желая услышать нужное ему мнение собеседника, всегда говорит в полувопросительной интонации, никогда определенно не высказываясь заранее; это была уже многими годами отработанная тактика ведения разговора, продиктованная необходимостью и желанием знать всю полноту того или иного вопроса, не мешая в то же время откровенно высказаться собеседнику. Брюханов знал, что Сталин имеет исчерпывающую информацию по любому интересующему его делу, и пока не понимал, чем именно вызван вопрос Сталина, но, видимо, у Сталина были на этот счет свои веские причины. Разумеется, всякий ординарный, дежурный ответ был исключен.
– С Чубаревым я всегда находил общий язык, товарищ Сталин.
– Ну а если ближе и предметнее? – Сталин слегка улыбнулся одними губами, но глаза у него остались по-прежнему непроницаемыми, темными и отстраняющими; решив, что Сталин переключился на какую-то другую мысль, Брюханов помедлил с ответом и тотчас услышал: – Да, да, я вас слушаю, товарищ Брюханов.
В темных, по-прежнему отстраняющих собеседника главах Сталина мелькнул просвет; мелькнул и исчез; так неожиданно иногда захлопывается, распахнувшись на мгновение перед любопытным взглядом, непроницаемое, всегда наглухо закрытое тяжелыми ставнями окно, дав возможность за краткостью мгновения даже не увидеть, а скорее ощутить жизнь глубоко внутри дома. Брюханов не удивился своему наблюдению, а лишь внутренне строже подобрался; как-то сильнее почувствовалось, что уже вечер, что Москва теперь в открытых огнях и нет никакой маскировки, и хорошо было бы пройтись по ярким, оживленным улицам. Брюханов поправил узел галстука, против желания ощутив на себе все тот же неотпускающий, как бы еще и еще раз заново оценивающий взгляд Сталина, в который уже раз понял, насколько невозможно и даже опасно думать о чем-либо постороннем, помимо разговора с ним; Сталин в это время взглянул на часы.
– Если ближе, предметнее, товарищ Сталин, – сказал Брюханов, – то во главе такого завода, как Зежский моторостроительный, нужен именно человек типа Чубарева. Человек с фантазией, оригинально мыслящий, способный на риск. Такой сумеет, если необходимо будет делу, настоять на своем где угодно, в любой инстанции. Муравьев на это не способен, это человек сугубо бумажный, его дело – руководить откуда-нибудь издали. – Брюханов устал следить за ходящим по кабинету Сталиным и замолчал.
Вы ознакомились с фрагментом книги.

