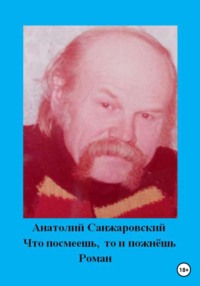
Что посмеешь, то и пожнёшь
Нам дудели, останавливались, шумно, как муха на аэродроме, вели себя и набивались подвезти.
Я ни на что не обращал внимания, брёл по обочинке – нос в землю.
Какой-то обнаглелый красный «Москвичок» совсем тихонько прижал меня к канаве и остановился с открытой наразмашку дверью.
Дверь мягко тукнула меня и сама собой пошла закрываться.
Вгорячах я подпихнул её что было мочи.
Она захлопнулась – как выстрелила.
– Силне, дорогои, можьно! – насмешливо посоветовал знакомый гортанный голос из «москвичовых» недр.
Ба!
Юрка! Клык! Дружок из детства!
Со своим драгоценным приданым. С Оксанкой!
В кои-то веки встретились!
В таком случае не велик грех и обняться, и поцеловаться.
От этих нежданных гостей одно смущение.
То Оксанка одна была сзади, разлилась во все сиденье. А теперь жмись к мужу под локоть.
Но ничего.
Хоть и трудно, а перекочевала, из дверки в дверку еле втёрлась, угнездилась горушкой напереди.
– А мы в баню у город ездили, – докладывает Оксана и промокает платочком потный лоб. – Смотримо, знакомецкие путешественники. Как там столица?
– Да на месте.
– То ж и хорошо! А у нас, чёрт его маму знай, раскипелась мамалыга!.. Лёгкий ты на вспомин. Утром тольке вспоминала, а ты к вечеру и заявись собственным портретом.
– Чёрным матюжком вспоминала? – со смешком подкинул я, не спуская глаз со встречно летящих заборов, столбов.
– И шутя таких слов не неси… Разь мы забыли, кто нам Ритку в прядильщицы на Трехгорку примостил? А где одна нос просунула… Ритка вытащила Зойку… А тамочки и Эдика, в первый же месяц после армии. «Москвичи» делает! Да и мы с Юркой… Если что… Умоемся почище да в Москву навсегда… К своим костогрызикам… В душе мы уже москвичи!
– Мы с ней, – Юрка кивнул на Оксану, – уже труха. А все наши корешочки, славь тебя и Бога, в Москве! Свои семьи… Как лето, на побывку свозят внучек. У нас их сейчас целых три штуки. Дома московский базар!
– Сладкий базар! – подпела Оксана. – Приедем, увидишь сам.
– Разумеется… А что тут у вас за мамалыга кипит?
– И не говори… – Юрка кисло покивал головой. – Вкуса кипящей мамалыги не разберёшь… Такая мутотень!.. Перестройку надо делать. Но зачем распускать такую демократию? Совсем сгорбился Горбачёв. Морфинисты и алики правют жизнью! Тпру-у! не едет! Н-но! не везёт! Совсем жизняка врозбежь покатилась!
– Да! Да! – спешит Оксанка словами. – Зубастовка на зубастовке… Голодовка на голодовке… В зубастовки поезд из Тибилиса три раза после апреля не приходил… Автобусы не ходят, такси не ходят… Одни алкаши ходят по плантациях и напрямо командуют: сегодня не работаем! Хотите жить, иди отдыхай домой! И люди уходят. В гараж к Юрке приходят два хватливых бородача: «Сегодня бастуем, не работаем. Завтра тоже. И потом… Такой держим динамизм». Все дурошлёпцы послушно расходятся. У другой раз снова расходятся… В третий раз опеть те же зашибленные бородачи: сегодня не работаем. Подходит Юрка с монтировкой: «У меня внучек полный гарем навезли. Кормить будешь?» – «Нэт». – «Ну и иди, мухет, к ё матери!» И поехали работать шофера. С тех пор что-то про зубастовку нам больше не докладают. Забыли? И смех и горе… Я у себя в больничке шуткой нет-нет да и спрошу баб на лавочке, как прохожу: голодовщиков на сегодня нету? Нету, отвечают. Жалько. Мне, поварёше, всё б меньшь готовиться…
– Бесится с жиру народ! – распаляется Юрка. – Даже город переназвали на старый порядок. Снова Озургети!
– А что означают эти Озургети?
– А чёрт его маму узнает! Вроде слово с турецким пердежом. Я слыхал, переводят так: сери здесь и иди дальше. Сшалели с воли. Готовы навалить и здесь, и там. И кто валит? Расскажи про Кищия, – подтолкнул локтем Оксанку в бок.
Оксанка засмеялась.
– Это коме-едища-а… Видали голодовщиков у театра? Тогда тоже бастували на тех же театральных порожках. У Феди Дударя соседец… Кищия преподобный… Ну… В одно слово, вдаретый дурцой. Лени-ивый на работу. Разведал про эту голодовку… На рани попрыгал в город и себе побастувать и поголодовать за общее ж великонькое царское дело. Прибёг… Ага… Сел… Ель отпыхался. Сидит… Тёща узнала, места не находит. Ох-ох-охуньки! Мой умный бедный зятьюшка простудится на каменных ступеньках! Другим, говорят, райком дал подушки, матрасы, одеяла. А моему то ли даст, то ли раздумает?.. Ой, как бы не ума́лили веку! И следом попёрла ему всё это сама. Деньжатишки прихватила. Ну, лёг дурындас на свою мягку постельку, честно с утра до обеда доголодовался и думает: всё равно тугрики ночью могут если не спионерить-скомсомолить, то уж скоммуниздить наверняка, сбегаю-ка я тайком в кишкодром[394] да хоть кину чего на кишку и буду дальшь, до самого ж вечера, на всю катушку голодовать. По-сухому. Официально! Но он не только хорошо поел, его сильно пронесло дальше. Он ещё хо́роше выпил. Приходит весёлой восьмёрочкой, культурно снимает шляпу, шляпу к груди, на все боки всем чинно кланяется и садовится на грустнуватые ступеньки. А «сухие» голодные бастуны, желтолицые трупы, его не поняли. И ну шмотовать! «Ты, дизик,[395] нашу идею испакостил! Мы за идею страдаем! А ты пьёшь, гадюк!» – «Да не пил я вовсе… Я так… Нечаянно немножко почитал классиков…»[396] – «Ах ты ж кладенец![397] Ну получай же ты, пролетарский болт кривой!» Отбузовали кре-пень-ко. Наклали доверху!.. Особенно отремонтировали бестолковку…[398] Ну, позвали скорую. Надо везть в капиталку. Валяется теперь другой вот месяц в больнице… А на второй день после боя бастуны разбрелись… Дело рассохлось… Тёща в горе. Весь же зять в больнице! А что ещё больней, пропали подушка, одеяло, матрас. Сто рублей чистого убытку! А зятю, умному зятю, что станется? Вернётся брякотливый и будет пить и ждать новой зубастовки.
– Это ещё не укат, – коротко хохотнул Юрка. – А так… Пустой плевок в космос. А вот послушай… Был у нас прошлым летом шорох… Полный уссывон!.. Это как помер наш генералюк…
– Кто?
– Да дуректор же совхоза! Полжизни дирижировал совхозом. Дважды Герой… И поехал он прошлым летом в райком. Всем бюро утвердили ходатайство для верхов, чтоб ему, нашему дирику, посодействовали поскорейше въехать в бессмертие. Тут порядок какой? Раз он дважды Герой, ему при жизни положен памятник. Памятника мало. Давай одновременно приваривай совхозу и имя нашего дерюги. Ну, всё утрясли, подписали. И дунул он в счастье к зубному. Отремонтировал хлебогрызку… Вставил полчелюсти… Счастливый в квадрате летит домой. В один день два хороша! Ну, думает, где два, там и третье выползет. Так и вышло по его… Ага…У райкома, на бугре, напротив памятнику Ленину, его тормознула хичовая бельмандючка… По культурному если молоденькая путешественница автостопом. Глянул он на неё… Фау! Фактуристая факушка. Фик-фок и сбоку бантик! Он, партподданный, любил всё большое, основательное. И всё это было у неё. Под божественный фундамент,[399] как на спецзаказ, судьба подставила и фундаментальные ножки… Глаз не оторвать. У бедного аж фуфайка заворачивается!
«Куда нада, лубимая?» – спрашивает.
«Докуда бензину хватит, неотразимый!»
Халява, сэр!
«Эдэм на мой личны Багама! На мой Кэмп-Дэвид![400] Извини… На твои Кэмп-Дэвид!.. Дару тэбэ навэчно!»
«Так скорей вези показывай свой подарок!»
И этот фанерный утконос[401] привозит её на отшибку нашего центрального посёлушка. Это за старой школой/ На бугре. Там выбурхали новенький совхозный санаторий для детишек. Назавтра официально сдают. Показывает хазар ей этот санаторий и отдаёт ключи со словами:
«Ми как истинни вэлики вэрни лэнинци всо дэлай зараньше! Завтра сдайом эту санаторью. Зачэм ждать завтра? Сдадым сэгодня лубимиму чалавэку! Встали на трудови вахту в чэст съэзда любими партии да, аба, сдали досрочно! Какая гдэ прэтэнзыя? У тэбэ эст прэтэнзыя?»
«Нет».
«У мнэ тожа нэту. Ми с тобои настоящи строитэли на коммунисма! Получи! – и отдаёт ключи. – А санатори здэс никогда нэ будэт, пока эст у мне ти!»
И с этими словами сорвал вывеску и бросил в чулан.
К этому ушибленному, бывало, пойдёшь чего по мелочи попросить… Фигули на рогули! Фига восемь на семь! А тут на первой минуте залётной двустволке преподносит такую фазенду с целым дворцом в придачу! Благо, не своё. Совхозное! В дитячем санатории бордельеро открыть!
Ну, позвенели они красным винцом – целую фугаску[402] притушили! – и двинулся наш фрикаделистый[403] разговеться.
«Давай лубимся!» – поступило спецуказание от красного пахаря.
«Уха-баха! Щас!.. Щас!.. Только ушки накрахмалю!»
Но разговеться по полной ему толком так и не довелось.
Упёрся старчик бивнем – тут тётя Ханума пришла.[404]
– Не может быть, – засомневался я.
– Факчительски тебе говорю!.. То ли головка закружилась от высоты, то ли сердчишко раздумало тукать… Толстым брёвнышком скатился ухабистый со шпанки. Развалился наш тупидзе по полу на всю комнату. Фюзеляжем[405] вверх, руки раскидал в стороны. Когда-то был турбовинтовой.[406] Да весь вышедши.
Посинел красный богатырь!
Ну что ж, всякому овощу свой фрукт.
Но самое смешное было на похоронах.
Слетелся весь районный партбомондище.
И такую несли хренотень!
«Он был настоящий верный ленинец! Настоящий закалённый большевик! Он всю свою героическую жизнь – дотла! – без малейших колебаний отдал построению коммунизма! Он был великий борец на своём посту! Он борцом за счастье всех людей на земле и сгорел на боевом посту!»
От тундрюки!
Что ж, прорешка у какой-то шалашовой шлёнды – мартен, плавильня?
Вот таковецкая приключилась у нас фука-ляка-бяка-кака.
Так наш совхоз остался без верного, матёрого ленинюги, без закалённого старого большевичка, без директория, без его имени и даже без памятника ему. Ну разве это не всехпланетное горе?
Было что-то постыдное в том, что ехал я в машине по этой дороге.
И в детстве, и в молодости без мала двадцать годков я своими ножками остукивал эти камешки. В город, в школу или ещё за чем, и из города всегда только пешком, иногда на велосипеде.
Автобусы в нашу сторону не закруживали, на попутки я не просился. Ни разу не проехал на машине. А тут на! За сколькую пору выблеснула свиданка и прожечь в «Москвиче»?
Совестно…
Надо пройти.
С асфальтового бугра «Москвич» на полном скаку ухнул на бетонный мостище, широко, плакатно перемахнувший и Натанебку, и долинку при ней. Чуть выше по реке сипел дымами какой-то баламутный заводишко.
Раньше это место на дороге было самое тихое, пустое, закутанное необъяснимым очарованием. Ни домов по бокам, ни огней. Один лишь пеший деревянный мосток в шаг ширью скрипел под тобой да в обвальные дожди напрочь закрывало всю долину вселомной, полоумной водой.
Сейчас всё вокруг закутали дымы.
За эти дымы мне совестно перед этой речонкой, что замелела, жалко сжалась под метровым холодным бетоном. Выйти б… Постоять… Как раньше забрести б обутым, одетым в воду и, раскидав в стороны руки, со всего роста навзничь пасть…
Но как выйдешь? Ещё обидится друг из детства.
И я против воли тяну лямку вежливого трёпа.
– Как местные, коренники, к вам относятся?
– Разно… – Юрка вздохнул. – Кто в Насакирали относился по-доброму, так тот и бежит той старой доброй стёжкой. Но таких всё меньше. Уже кое-кто сапурится. А кто под случай и вякнет: в Грузии должно жить девяносто пять процентов грузин. Должно… Да пока половина грузин живёт за пределами Грузии. Арифметика кислая. И в то же время… Бывает, незнакомый кто бахнет прямо в глаза: рус, долой из Груз! Бэгом на своя Рус! Да разве мы это и раньше не слыхали?
– Я б, – встряла Оксанка, – в двадцать четыре отсюда убралась, уберись они из Москвы.
– Ты-то у нас пионерочка. Повсегда готовая!
– Оно и тебя недолго собрать, – отстегнула Оксанка. – Дело не в этом… Дело… Как они определяют, кто свой, кто чужак? По паспорту? По лицу? Что, у меня на лбу печать вдаретая: украинка? Вот я здесе тридцать пять лет. Всю здоровью уклала в Грузинию… В чай… Какая ж я чужачка? А Юрка? Здесе вродился! Под каким солнцем загораешь, той загар и мажет… Гля, как зажарился! Слитый грузиняка! Замашки все грузинские. Голос грузинский, говорит – будто камни во рту перекатывает. Язык ихний знает. Свои, совхозные грузины, с ним по-грузински гыргочут. И поедь куда, везде его за грузинца примают. Конечно, заговаривают по-грузинячьи. И он в ответ по-ихнему гыр-гыр-гыр. От зубов только отсвечивает! Он тут чужак? Рази он своей волей тут выбежал в жизнь? Горевые родительцы-репрессивцы расстарались. Лучше б они старались где под Воронежем. А не спеклось. Беда выперла в Грузинию. У нас весь совхоз одни репрессированные… Выселенчуки… Горькие рабы… Свезли со всего света в каторгу. Почти задарма гнут позвонки… Совхоз – колония… Только что колючкой не огородили… Не тебе толковать… Май. Самый напор чая. Можно б подзаработать. А они норму раз и утрой, – и ты получаешь не больше чем в сентябре, когда сбор чай хилится уже на спад… На жалких копейках всю жизню и едешь… Эх-х… Так… Вон дорогу от Гагр до озера Рица пробивали в жутких горах в тридцать третьем репрессированные голодающие с Поволжья. Дорогу ту так и называють: дорога русского голода. А наш совхоз не на русском ли голоде возрос? Не на русской ли беде? По высылке в тридцатые сюда спихивали в чернорабочие. В трудовых книжках не писали: рабочий. А жирнюче лепили одно: чернорабочий. Чёрный вол! Чтоба ты знал своё место… Тучами пихали сюда всех, у кого закружились нелады с Софьей Власьевной. Гнали репрессированных русских, украинцев, армян… У кого не стало тогда своего куска, своего берега… В ту пору все они оюшки как нужны были здесь. Кругома малярийные леса-болота непролазные… Сушили болота, крушили леса и на тех горьких просторах возвели чайные да мандариновые плантации!.. Понастроили всего своима горбами!.. Перетёрли какое лихо и теперьше кати отседа? Да нет, мы погодим… Копаешься им, как жук, всё копаешься, а тебя ещё молотят… А совхоз «Лайтурский» возьми? А шёлкомоталку? Кто там на самых трудных, на самых чёрных работах? Русский, вкраинец, армяшик. Конечно, для при́чуди попадаются изредка и здешняки. Бригадир там, агроном, дирюга…[407] Здешняки только пальчиками водят. А наичаще у себя по садам домашне винцо лёжа у чур[408] содють вприкуску с виноградом. То у них главно занятие в жизни. Ещё они спекули хорошие. Наломают даремной мимозы в горах и лё-ёп в Москву Пят рублэ одына штюка!.. Ну, разгонят инокровцев. Кто ж им работу будет править? Сами? Ой лё… Той-то кричат они, да негромко: рус, долой из Груз! Подумывают, как бы сызнова созывать не пришлось.
– Я-то, – хмыкнул Юрка, – к своим с завязанными глазками дойду до Москвы. Как тот кот…
– Какой? – заинтересовался я.
– А не читал в «Труде»? Не тебе говорить… Между Арменией и Азербайджаном кипит – перестройка! – необъявленная войнуха. Ну, раз ночью в мамкином наряде пришлось азербайджанской семье на бронетранспортёре бежать из Армении аж за Баку. Про кота забыли. Не до того. Через 473 дня к ним явился за 650 километров ихний кот.
– Как он узнал новый адрес? У кого дорогу спрашивал? – залюбопытствовала моя Валентина. – Кто ему отвечал?
– Мир не без добрых людей… Только мне отсюда не уйти. Как уйти от матери?.. От отца?.. Как уйти от родителевой могилы?
Разговор обломился.
И как-то уже не подымался.
Могилы заставят молчать всякого.
На развилке Юрка взял к Мелекедурам.
– Стоп! Стоп, машинка! – тряхнул я Юрку за плечо. – Мы выйдем… Надо бы пешочком…
– Зачем, когда есть тачка? И тут ближе. Мелекедури. Чайная фабрика. А там на бугор взлетел, и мы у цели. Дома. Лет десять тому мы перебрались с пятого в центр совхоза.
– Нет, нет…
– Ну давай круголя через ваш пятый?
– Нет. Вы езжайте через Мелекедури. А мы пройдёмся… По воздуху юности… А на ночь к вам. Гарантируем. Мы на один день. Абы одним глазком глянуть на родные места…
На том мы и расстались.
3
Все мы, люди, одинаковы, только надгробные памятники разной величины.
П. КанижаяС годами я всё реже наезжал из Москвы в свои Насакиралики.
С поезда, с автобуса ли пеше, как сейчас, бежишь к себе на пятый. И всегда боишься не застать уже кого-то.
В этот август едва застал в живых наш дом.
Первый раз мы расстались эхэ-хэ когда. Поверх тридцати лет тому.
Был тогда наш дом молодой, красивый, крепкий. В нём было лучшее у нашей семьи жильё. Правда, тесное. На четверых одна комнатка!
Но…
До этого дома и после него наша семья жила всегда в сарайных бараках, где, к слову, нам никогда также не давали больше одной комнаты. Всегда только одна комната…
Стены из армянского розового туфа обещали этому дому вечную жизнь.
А тут подходишь, всё в тебе примирает.
Брошенный, пустоглазый дом захлестнули со всех сторон дикие ромашки. Окна выбиты, двери выдраны. На крылечках сбиты подпоры, крыши над крыльцами нависли, расклячились мёртвыми козырьками. Того и жди, падут.
Угинаясь, я заробело промигнул в нашу комнату.
Пол местами вырван. На уцелелых половицах горки сора. И кругом распадающийся дух отходящей жизни.
Со стены, рядом со ржавой подковой, я сломил пластинку синеватой побелки.
Горьким, ясным блеском отгоревших здесь наших дней плеснула она в душу.
Мне услышалось давешнее, как по утрам мама весело топталась на крыльце, с сапог резиновых сбивала веником снег.
Значит, ночью таки выпал! Дождались праздничка!
Некогда! Снег помрёт! Не успеешь накататься! Скорей вставай!
И без завтрака летишь в школу.
Пока добежишь до своих ненаглядных двоек, выше глаз накатаешься с горушек на полотнянках сумках с книжками.
Снег в Насакираликах заворачивал не во всякую зиму.
А когда и набегал, так не на век.
Был нетерпеливый, нелёжкий.
Лёг бы себе барином и лежи до мая.
Так нет.
Всё куда-то спешил.
Утром в колено, сжат морозцем.
А с обеда уже ручьями резво скакал к долу с весёлыми песнями…
То мне увиделось, как мама с кривой табуретки белила потолок самодельной толстой кистью из кукурузных рубашек. От едучей извёстки пальцы обмотала тряпицами. Как знать, может, в пластинке ещё живы синие полоски, что выбегали из маминой руки…
Я завернул пластиночку в листок, спрятал в паспорт и всё воедино положил в тайный карман на груди.
И не знал я пока, что вскорую снесут наш дом, вырубят чай перед нашими окнами. И на месте дома, и на месте чайной плантации посадят орехи…
На косогоре нет барака, где жила Женя и где мы встретились всего-то раз.
Нет как не было.
Весь тот простор задёрнула травяная злоба.
Нет персика, что служил нам штангой в футбольных войнах…
Нет танцплощадки…
Нет тропки, что глянцево сливалась спиралью с обрыва в каштановой роще ко дну оврага, к кринице…
Старый рыхлый бугор ссунулся, красно замял криницу, но не совсем. В неглубокой ясной воде еле заметен живой ток из груди земли…
Криничная вода уже никому не нужна? Ржавые колонки у домов обломили, обрезали к ней дорогу?
Боже, боже…
Посёлочек ужали, согнали в два дома.
И те наполовину пусты.
Надстроенные уже позже нас вторые этажи не круглый ли год тоскуют в обнимку с печальными, плачущими ветрами. Городские помогальщики когда-то приезжали на сбор чая, какую неделю в них перебедуют…
Сохнет, умирает жизнь…
Уже вечер.
Но нигде ни души. Ни старого, ни малого.
Все на чаю?
Будут работать дотемна, пока рук своих не увидят? Как и в наши старые давние дни?
Нечаянно мы с женой набрели на фуфаечный комочек.
Комочек шевельнулся у стены.
Это была бабушка Федора. Федора Солёная.
В одной бригаде с мамой работала.
Бабушка вроде узнала меня. Виновато улыбнулась.
– Что же, – спрашиваю, – Вы сидите прямо на земле?
– А мне так, Тоник, теплей… – Голос у старушки слабый-слабый, взгляд с надломом. – Кольку выглядаю…
– Дождётесь сына. Потом что?
– В хату пидемо… В хате холодно одной… В обед вынес, я и греюсь… Трусюсь… Ах, кабы я, хворуша, ходила… Я б ему чай подмогала ирвать. Всю жизню чай ирвала, ирвала… А чай сам меня порвал…
Старушка задумчиво замолчала, прикрыла глаза.
Казалось, она заснула.
Но тут же вздрогнула, слабо всплеснула сухими ручками:
– Ой, Тоник! Шо ж я брешу тебе? Колька чай не ирвёт, а рубит…
– Это как?
– А топором… Цальдой…
– Я вас не понимаю.
– А думаешь, я шо понимаю? Такое тут горе варится… Я тебе проскажу всё по порядку… Может, тогда и поймёшь. Ты помнишь, как ты ирвал чай? Руками, по одной чаинке и кидай в корзинку на боку. А лет десять назад стали собирать машинами. Японьскими… Вручную мы набирали в день двадцать-тридцать кил. А машиной… Не сто, так все двести! Работка не сахарь, потяжеле любой каторги… Пойди по плантациях, ещё увидишь везде столбы, столбы, столбы под проводами. По тем проводам бежал ток… Все плантации упутали проводами… На столбах розетки… Включай да собирай. Делов – то! Это постороннему глазу всё легко, впросте. А… Сама машина весит кил двадцать. При ней мешок, куда собирается чай. И в тот мешок войдёт кил двадцать пять. Да кабельный шнур. Полсотни метров. Обмотаешься им и тянешь за собой. В том шнуре тоже кил пятнадцать… И выходит, что весь день ты таскаешь с зари до зари пуда под четыре отакой заразы. И это круглый год за вычетом лише зимы да ранней весны. На Колыме такую каторгу видали? Ох лё!
– Значит, соберёшь чай вокруг одного столба на полсотни метров. Потом идёшь танцевать вокруг другого столба?
– А куда денешься? Идёшь… Так и танцюешь со столбами… Го-орькая каторжанция… А ну нянчить такую дуру машину всейкий день!? Да она ещё без глаз, нарежет тебе чёрте чего. Потому до того, как поднести её к кусту, зорко осмотри куст, где какая бузина, папоротник там иль ещё какая сорная глупость – счахни с куста, подчисть его… Ну… Хорошо, плохо ли, а грузинский чаёшенька шёл. Но вот накрыла нас перестройка… Там… Ещё хужей… Отплюнулась Грузиния от России… Как ото не по-людски начиналось… Огнём да страхом скидали до кучи нам цэй Советский Союзище. И шо? Как криво сляпали, так оно и разляпилось на старые куски. На огне да на страхе вдолгую ль шо уживёт?.. Так вот, значится, отскокла Грузиния от России, как сытая горошинка от стенки, и пришла нашему чаю полная смерть.
– Даже так?
– Та-ак… Грузиния хóроше кушала с широкой русской ладонушки и хлебушек, и масличко, и всё прочее… На русском токе хóроше работали машины в русских руках, работала чайная фабричка. Русский ток гнал воду из Супсы, поливал чайные плантации. И вдруг всё пало! Как с обрыва кто столкнул. Стал ток идти с перебоем. И пришла совхозу смерть. Чай вовремю не убрал, чудок перестоял… Это уже не чай, а лешева облицовка. И покатилось всё кувырком… Не работают чайные машины… Стоит чайная фабрика… Чай задичал… И вот, Тоник, то, за шо бились репре… репрессированные батьки… Твои батько с мамкой, я со своим Митькой… Мы в тридцатые корчевали здесеньки леса, сушили болотины, везде растыкивали чай… А наши дети, – мой же Колька! – теперь вот этот самый чай под огороды вырубают! Какие страхи… Русские поставили на ноги совхоз… Обихаживали… И… И русские же плохие… Нас и раньше здешняки не душили любовью. А зараз… Кипячёно косоурятся, косоурятся… И съехали все русские, кому было куда ехать по Россиюшке… Остались гнилушки, кому некуда податься… Такие, как вот я… От нас ни жару ни пару… Но и мы ждём своего близкого часу… Нам тоже отъезжать, да невдалече, под дорогу в питовнике… Там Боженька примае всех… В паспорта не заглядае, не спрашуе, хто ты… Русский, грузинец?.. Не стало в совхозе русских – не стало в совхозе и жизни… А грузинец в работе разь особо сине горит? Зато винцо, песенки да пустодевки… Это ему мёдом по сердцу. Да чаю не этот медок нужен! Померла в Насакиралях жизня… Вот так… И куда от этого денешься?
Она горько замолчала.
Я не знал, что ей сказать.
И тоже молчал.
Наконец, на долгом вздохе она снова заговорила:
– Без русских помер чаёк… Померла в Насакиралях жизня… Жали что… Померли наши какие труды… Считай, в Насакиралях чаю уже нема. А остался кой да где на стороне, при домах… у редкого частника. Вручную ото ирвуть… Вручную протирают и сушат кто по-под койкой, кто на чердаке. И на баночки продають по базарям. А кто поразворотистей, на продажь гонять аж на Кубань. Наш русский рублеюшка понаваристей их ларька[409]…
Она помолчала, отдохнула и тихо зажаловалась:
– Слабость… Совсем на свале… До угла, хворушка, ползма не доползу… Ты не знаешь, Тоник, чем я Бога огневила? Лёньку взяв… Сына старшака… У тридцать пять годов… Самэ жить та жить… Хозяина восема вжэ лет як прибрал… Похоронетые рядома… Як я ни просюсь… Не бере…
– Это чего ты, Солёниха, там такое плетёшь с огнёвой болести? – шумнула от соседнего крыльца бабка, мыла с ножом кастрюлю. – Это куда ж ты, горюха, так дужэ просисся? И с кем ты тама?.. Голос навроде-ка из знакомских…