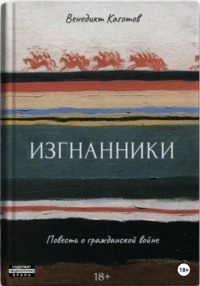
Изгнанники. Повесть о Гражданской войне
Эдвин не удержался и хмыкнул, и одновременно почувствовал, что острая злая струна в нем надорвалась – слушать американца было увлекательно и даже умильно.
– Не смейтесь, мистер. Свободный дух, как молния в тополе. Так, он не обманет вас. Да, вот, один инженер грузил мне в пути байку о бандитской стоянке под Влади, вы знаете. Военные, китайцы, фермеры, трапперы с жадной кровью живут в прерии, а. Там много палаток и тайников со шкурами и золотом. Они даже поставили наши подводные лодки, как фортовые башни, вроде. Это, значит, э, те лодки, которые похитили со здешних складов зимой. Это фронтир, не так ли, мистер? Обиталище Пинто Бэна и мистера Харта. Ну, я рад им больше, чем цыплячьим душонкам.
– Странно вы думаете… Постойте. Я, кажется, понял, сержант. Вы отсутствовали, как видно по Вашему мешку. Это значит, что грабеж не коснулся Вашего имущества. Вот откуда, такое миролюбие – лукаво заметил Эдвин.
– Так, все мое имущество, мистер… Все, что у меня могли бы вынести, это кровать, Вы знаете. Маленькие картофелины, э. В любом случае говорят, что только наших go-getter’s номера вычистили – по-прежнему безразлично отвечал сержант.
– Вы говорите… о ком? Об офицерах? – удивился Эдвин.
– Так-то, ну будто сами не знаете, мистер. Это воротилы, ловкачи на честной сделке, э. Они скупают все подряд у русских: женское разное, и шубы, и богатое оружие, и ковры, и посуду. Они надеются, что жидкие деньги помогут им смыться с наживой, вы знаете, – сержант ловко затушил пальцами тлеющий окурок и отбросил, – мы ходили на вокзал, где эти кочующие бедняги лежали всю зиму. Так… прямо трупный дом, как вот на карточках показано. Вот, ну там серые тела навалены друг на друга… от стены до стены в ширину, по колено в высоту. Значит, тут только черные пятки торчат в разные стороны, а тут, русые головы как кочаны на опилках, а. Еще брючные крысы – вша, значит – копошатся поверх, и потому лиц почти не видно. Тифозные бараки, вы знаете, тифозные бараки… Никто не двигается, э. Никто не говорит. Так, но, если ты прислушаешься – посапывают. Выше змеи. А если ты достанешь шоколад или банку, так и жизнь просыпается в них, Вы знаете.
– И сколько вам удавалось выручить за банку? – с холодом спросил Эдвин.
– Что вы, сэр, я не по тем делам. Я не хорош на каблуках, как наши офицеры – улыбнулся сержант.
– Я не понимаю.
– Так… я не продаю ничего. Как говорил отец: беда соседа – это не жила, тебе не стоит стараться на ней, но также не следует отсиживаться на заборе… Ну, Я… У меня яростная зуболомка, сэр, еще с прибытия. Прямо маета. Доктор наш говорит, из-за здешней воды, э. Ну, я, для краткости говоря, питаюсь тяжело. Прилично скинул бобров. Ну, так, я ношу свои воздушные трико на вокзал. Все эти милые пуговки… Там их так много, что у меня засохшее лассо трет сердце. Donsie pokes.
– Так вы… что за трико? – в замешательстве начал Эдвин.
– Так, я имею в виду, что я ношу армейский паек: консервы, сгущенное молоко и бобы с мясом для тех детей… Милые пуговки. Закладывают правду, будто бы, мистер Томас Инс снимает о них фильм. Я как приехал сюда, так понял наконец его «Тайфун», что видел в movies.
– И что же?
– Все на войне дичают, сэр, но юркоглазые фумандзю быстрее прочих. Некоторые ихние офицеры приходят суда просто поразвлечься средь бела дня.
– Да, слышал об этом…
– Так, вы, мистер, спрашивали, что выручить можно за банку – вдруг оживленно продолжил сержант – Ну, капитан приобрел, правда, изумительную шкатулку на той неделе. Она была мраморная, покрытая серебряными выпуклыми-с-ноготь рисунками. Это значит, что ее отливали остуженным способом по форме. На крышке и по бокам была положена шероховатая россыпь между серебряных завитушек. Это значит смешивали песок с аметистовой крошкой на скрытой пластине. Но самыми чудесными были саламандры. Они прятались в каменных травинках и листочках. Капитан заплатил за эту шкатулку три доллара и десяток шоколадных плиток. Она была сокровищем семьи, но ее нельзя положить голодным в рот. Да. Так, ну, ее украли тоже прошлой ночью.
– Как Вы описали вещицу… с любовью…
– Так, потому что, э, эта шкатулка была лучшей работой. Она заставила меня чувствовать восторг, как ребенок среди жаркого полевого тумана. Да, Вы знаете. Я учился горным человеком и мастером по камню у моего дяди дома. Тут, на этой земле у меня прикипела винтовка, прямо нечего поделать, но, когда я увидел шкатулку, э… Мне вернулся мой дух. Мой глаз острый. Ну, я искал камни в этом крае и нашел много по разным ручьям – сержант пихнул ногой мешок – У меня есть задумка для каждого из этих камней. Надеюсь, что они не пропадут.
***
Около полудня Эдвин вошел на полупустую рыночную площадь. Прогулялся мимо зеленых и фруктовых рядов, забрел к рыбным торговцам – на влекущий запах. Живо возник образ вареного осьминога, ласкавшего закипающий бульон серыми щупальцами. Тут же на дворе на сухой траве с морщинистыми китайцами перекатить бы чугунный котел, затопить. Раздавить горсть чесночных головок в шелухе, бросить кружок масла, камешков черной непальской соли, страшного белого вина, кислятины, молодой хрусткой моркови, пару едких бугристых салатовых макрутов с листьями, не прокусываемых пластин сушеной рыбы, вязок кореньев. Такое намерение, казалось, означало жизнь, какое-то счастье от приготовления и последующей трапезы, какую-то связь с будущим. Да только время… Ну после. К вечеру.
С площади Эдвин вошел в большую на три этажа книжную лавку, выпиравшую из соседних строений беленым срубом и заточившей свежевыкрашенные иероглифы вывеской. Внутри боком к решетчатым солидного кофейного оттенка дверям сидел на табурете высокий худой китаец в черной тоге, с золотой медалью на груди, с заплетенной бородой до медали, в котелке. Перед ним вздымались полки с мрачными книжными горбами в ладонь шириной. Посетителей не было. Китаец, резко оттолкнувшись, встал. Молча и легко поклонились друг другу, после чего Эдвин скрылся в дальней комнате. Здесь в самом центре от пола до потолка возвышался аквариум, внутри которого в парадном офицерском мундире цвета спящей гусеницы стоял манекен со штопанной кожаной головой. Мягко стукал и обивался внутри о стекло над кучкой сухих слепней один живой слепень. Пахло масляным. Пространство освещали расставленные в разноцветных стеклянных формочках огарки свечей, взирали на них с икон страдальческие лики неводных мучеников. Взирала полупрозрачная розовая Мария со спящим, нездешне упитанным младенцем. По левой стене висели четыре фотографии. На первой разные военные в фуражках смотрели друг на друга в подзорные трубы. На второй они же шли с половником по окопу. На третьей – гладили коз. Без фуражек. На четвёртой фотографии на фоне горящей пагоды пожилой мужчина с подкрученными a la Guillaume II усами в белом мундире демонстрировал под общий смех поднятую руку с вытянутым указательным пальцем, что казался невидимым в клубах оседающего пепла. За аквариумом вдоль дальней стены были прислонены десятки холстов с угольными набросками батальных сцен. Многие рисунки перевернулись, и оттого чудилось, будто это один большой шарж на современную злободневность, будто это прихотью ребенка полчища игрушечных конниц брошены со всех сторон в игрушечный бой. Выше на стене под единственным глухим окошком виднелась еще небольшая акварель. Картина изображала погибающего в скалистом ущелье чудного трехглазого коня. Конь припадал на колени, тянул непропорционально длинную шею, втискивал челюсть в расселину валуна.
В комнате Эдвин быстро разделся догола и рассмотрел себя. Он убрал форму в мешок-хаки и запер в стоявшем на полу круглом японском сейфе, маслянисто-черном до самой своей завораживающей нефтяной глубины. У зеркала подвязал на живот поверх сорочки маленькую подушку, помазком вывел по подбородку клей и приладил короткую русую бородку. Пудрой, похлопывая, с удовольствием смягчил темневшие под глазами круги. Затем снял и принялся возиться с костюмом в желтоватую беж с короткополым сюртуком и сиреневым жилетом. В конце – обернувшись прямо-таки по-павлиньи, райской птицей редкой глупости – надвинул на лоб козырьком светлую кепи и подобрал трость.
Китаец ждал снаружи на площади, резал и совал двум низким, по пояс ему лошадкам четвертинки неспелых яблок с осколками неаппетитного коричневого сахара, поглаживал детски-пушистую палевую гривку, крученую челку на лбах, под которой вместо глаз чернели запекшиеся с кулак угольные ожоги. В упряжке стояла серебристая коляска, с плотно набитыми армейскими мешками, дутыми канистрами и крытыми холстиной ящиками. Эдвин брезгливо обошел экипаж и вопросительно взглянул на хозяина. Тот пожал плечами, улыбнулся и протянул, угощая, теплый хлеб с изображением креста. После закурил и замахал – к ним тащился на телеге второй возничий.
По городу ехали долго. Задерживали стекавшиеся на похоронную процессию военные и гражданские. Пришлось возвращаться. Петляли, протискивались мусорными рядами и оврагами к морю, потом назад мимо дымящей лесопилки и стай распухших птиц, напоминавших комки карманного ворса. Эдвин всю дорогу разглядывал грязный пол, возил ботинком. Потом задремал, привалившись на мешок. Покинули старый Владивосток в начале третьего. Лошади тянули меж зеленых сопок, пустынных, безмолвных. Трава по вершинам линяла. Местами выгорела, местами сочно наливалась, и в ней, казалось, твердо держали свои белые бутоны сибирские мраморные ирисы – так густо заросли коровьи скелеты. Прозрачной вуалью кокетливо зацепилась за коляску и не отпускала под тусклым солнцем тень аэроплана. С двумя красными кругами на каждом крыле он был похож на вялое насекомое, ужаленное кем-то ядовитым, хищным, кто следовал по пятам, наслаждался медленным угасанием его жизни. Китаец посматривал на небо, аккуратно правя повозкой. В задумчивости, щелкал кнутом, рассекал темные фиолетовые рои мух у навозных куч.
Вскоре за поворотом выглянул с холма одинокий белый домик. Лошади налегли под горку, а там раскинулась во все стороны обширная рабочая застройка: железнодорожный узел в клубке путей, станция, бараки, закипавшие у речки мыловаренные и пивные заводы со складами. Коляску стали настигать автомобили с красными крестами, водовозы, военный транспорт. Наконец, открылись на склоне между сопками длинные кирпичные в два этажа казармы. Во дворе за редкими столбами и вышками на робких спичечных сваях работали голые по пояс люди, пестрели штанами. Развешивали по слегам исподние оранжевые рубахи и кальсоны, пилили. Один возил рубанком, летела стружка. Воздух вдоль ограды рябил от натянутых параллелей колючей проволоки, и будто выскочивший из этих сетей, болтал под небом хвостом, плыл по ветру приколотый к высоченному шесту черный бумажный карп в золотых чешуйках. Приближались к лагерю военнопленных.
Красные казармы лежали в три ряда, обведенные пятнами вытоптанной земли. Дорожки, игровые квадраты, выеденные рваными кусками поляны. Что бы сказали люди понимающие, сведущие в искусстве? Разгадали бы по рисунку чувства, которые неосознанно вложил художник – народ военный? Вот тут, маясь от голода, пробил он петляющую колею злой штриховкой, там, после тифа вывел неуверенными ногами слабые стежки, а с краю вон – намалевал подтеком футбольное поле. Поодаль, где прогуливался, тоскуя о доме, наметил по детским воспоминаниям линии любимых парковых аллей. Замышляя побеги в уединенных уголках, раскидал крапинку легких следов, а рядом – отвесные серпантинные тропки, куда карабкался за видами с кистью в зубах, с тушью, с драгоценными листами. Осталось все это на желтом песчанике, видно ли? Где столовая, где театр, где лазарет?
Китаец постучал ладонью по сиденью, разбудил.
– Сворачивай в поле – коротко сказал Эдвин, выпрямляясь.
Лагерь был офицерским, и с прошлой осени управлялся японским военным командованием. Более половины его обитателей, немцы, австрийцы, венгры и турки ежедневно работали во Влади и возвращались только на ночь. Постоянно проживали около трехсот человек, в основном больные и те, кто трудился в кустарных мастерских. Многие фермерствовали на распаханных под картофельные, капустные и морковные посевы участках. Теперь тут копали дренажные канавы, возили воду, сбивали компостные кучи. В мощном парнике, который возвышался почти вровень с крышами казарм, двое в малиновых фесках, устроившись по-малярному на веревках, под самым сводом стеклянного купола прореживали от волчих ветвей молодые фасолевые и помидорные побеги.
Эдвин соскочил на ходу и поспешил к шедшим навстречу мужчинам, которые своей вычурной жалко сгрудившейся на осанистых армейских фигурах безразмерной одеждой напоминали ряженых. Первый – капитан германской армии с оттопыренными ушами и редкими соломенными усами на усталом лице – пылил отбившейся подошвой на одном из красных австрийских ботинок и, ругаясь, отряхивал на ходу рыжие галифе. На нем висела просторная ниже пояса гимнастерка под коротким сюртуком русского солдатского сукна и черная спортивная фуражка. Второй – хромоногий немецкий доктор с тростью – щеголял английскими военными сапогами с заправленными в них синими крапчатыми от чернильных пятен штатскими брюками, рваным коричневым пиджаком и желтой китайской шляпой.
– Добро пожаловать – поздоровался капитан на французском.
– Grüss Gott – доктор чуть не до головы радостно приподнял трость.
– Капитан. Доктор. Как обстановка?
– Все готово. Начальник с большинством личного состава на похоронах в городе. Остались только два лейтенанта, не считая охраны.
– Не будем терять времени. Прошу ко мне.
Вместе с Эдвином офицеры поднялись в коляску. Развернулись, тронулись к лагерным воротам, где у караульных будок очередью вытянулись австрийские музыканты. Нарядные при полной форме, они грустно напевали родное, держали инструмент: коробочки угловатых скрипок, оплетенные лошадиной кожей барабанные кадушки, кастрюли и оленьи рога, с пропущенными грубыми струнами. Предъявляли пропуска. Тут же встали несколько дровяных возов с разобранными бобровыми хатами. Из послушной рябины и ореха, нависших гребешками сморщенной зелени по бортам, высовывались искривленные в призывном жалобном жесте сосновые кисти. Их подминал собранный у моря влажный трухлявый намыв. Высилось среди коряг и досок целое мачтовое бревно, с глиняным мшистым опояском, с щекотными колтунами веревок и ломаным рангоутом. Правили полногрудые в чистых белых платках хохотливые бабы. Певуче перекликались. На задках курили уморенно строгие остроносые смуглецы, чернобровцы. Темные лица со стертыми печатями должностей и званий, с намеченным не по годам кантом проседи, но по-прежнему устремленные, независимые, довольно светились: не скучно – славно поработали.
Проверяли сосредоточенные японские часовые под надзором низенького лейтенанта. Новичок. Под пушистыми бровями – выслеживающие охотничьи глазки, что, опережая нос, тянули всего его за собой. Лицо непростое с потаенным изъяном человека страстного, но не улыбающегося – показывающего зернышки зубов, мнительного. Руки за спиной в белоснежных перчатках, в зеленых рукавах френча смотрелись нежно, милующимися лебяжьим шейками. Зверь повадками, ступавший как хорь по курятнику, он двигался почему-то чуть вразвалочку, словно поднывал где-то хрящ. И сразу понятно стало вблизи, донесло спиртным.
– Представитель миссии Шведского Красного Креста во Владивостоке, Гарольд Эрлингтон. По делам инспекции санитарного состояния лагеря «Первая Речка» и подготовки плана очистительных работ – сказал Эдвин по-английски, чеканно, подавая бумаги. Сопровождавшие его немцы спустились заранее и вместе с музыкантами уже проходили за ворота.
Японец мельком, не взяв даже, небрежно взглянул на документы, ухмыльнулся на сиреневый жилет и начал обходить коляску, развязно, по-хозяйски, как умели в этом краю одни только японцы.
– Что в ящиках? – произнес он, повернувшись к Эдвину, демонстративно кривя челюсти, почти гримасничая, чтобы показать свое презрительное коверканье ненавистных уродливых слов.
– Медикаменты… Открой – попросил Эдвин своего возничего, и как только тот потянулся вполоборота назад, лейтенант, мгновенно рассвирепевший, заорал по-японски, хотел ткнуть китайца тростью в бок под руку, но тот, и не посмотрев, необычайно легко, словно это не потребовало от него и малейшего усилия, вдруг распрямился и уклонился. Трость лишь скользнула по спине возничего, и тогда японец, подпрыгивая, принялся тащить его на землю за рукав.
– Какие медикаменты? Где писал? – кричал японец уже Эдвину, а тот в бешеном прыжке летел ему навстречу, теснил с бумагой и тростью в одном кулаке и, выдыхая прямо в лоб, рычал:
– Ты читать разучился, уличная обезьяна? Никчемный син-то. Ты окосел от водки? Ну, скажи мне еще что-нибудь! Подними свою руку еще раз! Я – глава международного отдела… первейшей комиссии…
Японец отступил на шаг изумленно, запрокинул голову. Под воротником френча обнажился ожог, который розовым платком дурной вязи в узелках и швах криво полз по шее к уху. Другой шрам вылез над перчаткой на левой хватавшейся за саблю руке. Но тут же рывком одернул гневливца подоспевший с солдатами второй японский лейтенант. Преграждая путь, попытался увести. Прибежали немцы. Доктор быстро шепнул Эдвину по-французски:
– Да что Вы! С такими-то документами! Не встревайте. Его лишь задел вид Вашего кучера…
Но Эдвин весь трясся, кипел:
– Куда? Эй ты! Ээээй! Оставаться на месте! Ничтожество!
Японцы хрипло спорили друг с другом за спинами солдат, державших дулами вверх винтовки. Наконец, лейтенант, Эдвину знакомый, подошел размашисто и сухо на хорошем английском зачастил:
– Господин Эрлингтон! Прошу Вас, сэр. Произошло досадное недоразумение. Лейтенант крайне сожалеет, что был так вспыльчив, и приносит свои искренние извинения…
– Какое недоразумение? Какой лейтенант? Дайте мне его название. У Вас пьют на службе при оружии!
– Нет-нет, господин Эрлингтон, это вовсе не так – сменив тон, японец принялся делать вид, что крайне обеспокоен и от волнения с трудом подбирает слова – Прошу Вас войти в положение, сэр… Лейтенант прибыл недавно с сердечной… от грудной клетки… Видите ли, он прибыл из госпиталя. Была тяжелая контузия, сэр… Кроме того, опасный день сегодня… прошу прощения, траурный день. Вы, должно быть, застали похороны в городе. Очень много японских офицеров было убито в недавнем бою с партизанами…
– Все это совершенно неинтересно мне. Вы что же оправдываетесь… за него? Он должен представиться немедленно и объясниться с моим работником. Я доложу начальству и то, в какой форме это будет сделано, зависит исключительно от лейтенанта самого.
– Насколько мне известно, господин Эрлингтон, разрешение споров между военными и гражданскими лицами находится в компетенции местных…
– Что ж, если Вы выбрали подобную линию, лейтенант… Если Вы полагаете, что Вашему почтенному главнокомандующему, будет приятно ознакомиться с официальной нотой глав Британской, Французской и в особенности Американской миссий… – не уступал Эдвин.
– Но, чего Вы добиваетесь? Ведь нужно понимать, что любое принуждение будет крайне унизительным для лейтенанта… Мидзуно… в таком его возбужденном состоянии… Я повторюсь – он сожалеет, сэр. Ему показалось, что Ваш работник вооружен и собирается достать револьвер. Нервы подвели лейтенанта. Но в итоге никто не пострадал. Не беспокойтесь, я обязательно доложу начальнику лагеря. Он Вам известен, сэр. Его решение будет справедливым, без сомнения… На этом инцидент исчерпан, я полагаю.
– Я не могу понять никоим образом, почему мне приходится повторять Вам? Лейтенант повел себя не просто оскорбительно, но прямо преступно. Все здесь привыкли к подобному, как я вижу, но я не стану сносить и одной даже грубости со стороны кого угодно, с любыми возможными полномочиями. Если лейтенант Мидзуно опускается до недостойного вранья, я вынужден отстаивать свое достоинство и убеждения как офицер запаса Британской армии. Я призываю его к ответу сейчас же. Прошу Вас передать это – заскрипели зубы.
Японец взволнованно посмотрел на Эдвина и лишь покачал головой.
– Подождите, пожалуйста.
Он вернулся к лейтенанту-зверьку и, склоняясь над ним дугой, закрывшись от солдат, стал шепотом внушать. Тот явно не соглашался. Точно, урод – думал Эдвин, наблюдая с ненавистью за их разговором. Наконец, маленький японец подошел к возничему, которому был чуть выше груди, что-то стремительно проговорил вверх и удалился. Китаец, улыбнулся, махнул Эдвину – едем.
***
Коляска вместе с телегой остановились между рядов казарм у пекарни. Мучные, похожие на привидения, на неясно-дымчатые образы павших солдат с бедных антивоенных плакатов, выходили разгружать военнопленные кондитеры и булочники. После происшествия – подавленные, мрачные. В тишине говорил один только Эдвин. Он наслаждался полным своим всевластием над хаосом, над непостижимым в вечном раздоре Вавилоном. Здесь, где абсурдные порядки порождали лишь бесправие, сумасбродство и смерть, где не могло быть спасения, ему не просто удавалось противоборствовать безумию, но использовать его для созидания.
– Итак, начнем с одежды. Сразу скажу, летнего ничего достать, увы, не получилось. Проверяйте и сразу заносите внутрь… Шубы, восемь штук. Кожаные перчатки, ботинки. По пятнадцать пар. Все – американское обмундирование. Распределяйте как обычно, между всеми, чтобы не бросалось в глаза… Керосин, три канистры. Порошок от насекомых, 150 фунтов. Из лекарств. Тут уж, доктор, какие имелись. Не выбирал… Вы сами лучше смотрите. Теперь к документам. Пустые бланки королевского датского вице-консульства с печатями и автографами. Тридцать экземпляров для австрийцев и венгерцев. Семнадцать удостоверений посольских делегатов с подтверждением национальности предъявителя: тут у нас вышло восемь словаков, четыре эльзас-лотарингца, три русина и два грека. Четыре удостоверения врачебных комиссий Красного Креста об освидетельствовании с признанием инвалидности. Четыре удостоверения за подписью дежурного генерала штаба местных войск на право проживания в Приморской области. Используйте, понятно, крайне осмотрительно, только поодиночке, с интервалом в несколько дней. Вот эти восемь карточек не взяли. Как я и говорил – лица ни них слишком тусклые, и на новых документах это может вызвать подозрение, особенно у придирчивых чешских патрулей. Передайте, что нужны новые… Далее. Вот кое-какая литература для вашей библиотеки. Гёте, Шиллер, Мольер – все, что было на немецком. А вот Монтеня, извините, не нашёл. Может быть, в следующий раз. Вы уверены, что его переводили на немецкий? Англоязычная пресса, ее – в изобилии и французские переводы свежих русских и китайских газет. Для вашего оркестра… Где-то здесь ноты… Да. Концерты и увертюры Шумана. Сонаты Грига… Грампластинки… сам такое не слушаю. Ну и, наконец, последнее. По Вашей личной просьбе, доктор, привез Вам около 100 фунтов лимонов.
– Благодарю вас, мистер Эрлингтон. Особенно за перекись и соду. От шведов больше двух месяцев не могу добиться – ответил доктор, разворачивая завернутые в бумагу стеклянные сосуды. Отвлекшись, он потер и с удовольствием понюхал лимон. Капитан кивнул Эдвину – все по договоренности. Из пекарни начали выносить мешки с пахучими буханками хлеба.
– По 100 фунтов в каждом.
Загрузив телегу, китайцы плотно накрыли мешки холстинами и вместе с капитаном отправились на окраину лагеря, где горой высилась свалка. Эдвин остался ждать в кампании доктора. Из дверей напротив пахло баней, влажным теплым деревом. Пышными раскаленными клубами кидал оттуда то вишневый, то лиловый дым снизошедший божественный Гелиос – железная дезинфекционная машина. На крыше здания на одной из труб белело гнездо, в котором стоял небольшой каменный аист. Голова его была изящно запрокинута и лежала на спине, глаза зажмурены, клюв распахнут. Скульптуру высекли два немца в память о событиях весны 1917 г. Как и во всякой трагедии, в ней было донельзя нелепого.
Тогда из-за сильных паводков лагерь оказался на несколько недель отрезан от железной дороги, по которой доставляли провизию, а как вода сошла, стали наезжать представители новой русской власти. Иногда сразу по 5-6 человек. Много спорили и пытались драться друг с другом, вежливо беседовали с военнопленными и совершенно ничего не знали и не делали. Через месяц, когда совсем прекратилось еще поступавшее по инерции снабжение, наступил голод. Начальник лагеря, человек порядочный, предпринимал, что мог – экономил, сокращая пайки, закупал на собственные средства провизию у окрестных рыбаков и охотников, даже отпускал под честное слово целые офицерские артели и духовой оркестр на заработки во Владивосток, но возобновления поставок так и не добился. В довесок рухнул поврежденный водопровод. Разразились цинга и дизентерия. Питавшиеся отбросами люди ожесточались, обособлялись, схлестывались из-за сухарей и водянистой похлебки.
Наконец, группа венгров решила изловить и пустить в котел гнездившихся на крыше бани аистов. Уже несли ставить лестницы, когда путь им преградили пятеро русинов. Веселые земляки с Придунавья – единственные в лагере славяне – попали сюда случаем после крушения поезда и лежали в лазарете. Услышав о жестоком намерении, все они немедля вышли, как были в исподнем, кто на костылях, кто с забинтованным лицом – столь сильно почитали в их краях чудесных птиц. Вспыхнувшая перепалка привлекла всеобщее внимание. Самые изможденные и отчаявшиеся приняли сторону венгров, большинство же, среди которых оказались даже турки, варварство осудили. Назревало столкновение, однако вовремя вмешался начальник. Людей разогнали по казармам, во двор выставили вооруженную охрану. Русины же, посовещавшись, определили одного из своих, самого здорового, сторожить гнезда на крыше.