
Памяти убитых церквей

Марсель Пруст
Памяти убитых церквей
Marcel Proust
En mémoire des églises assassinées
Перевод:
Ирина Кузнецова («Памяти убитых церквей», «Смерть соборов»), Татьяна Чугунова («Рембрандт»)
Вступительная статья, комментарии:
Сергей Зенкин
© Кузнецова И. И., Чугунова Т. В., перевод, 2017
© Зенкин С. Н., вступительная статья, комментарии, 2017
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2022
В поисках многообразных впечатлений человек эстетической культуры не знает покоя, колесит от собора к собору, от картины к картине. Его любимый способ осмотра памятников – прогулка, обзор на ходу: поездка на автомобиле, вылазка в город во время стоянки поезда на промежуточной станции, экскурсия к храму по разным дорогам в зависимости от погоды. В ранних эссе Марселя Пруста об архитектуре и искусстве уже предвосхищены некоторые мотивы «Поисков утраченного времени»: и топография – связанная с погодой! – детских прогулок «в сторону Свана» и «в сторону Германтов», и мечтательные рассуждения об «имени стран», и поездки юного Рассказчика в Бальбек…
Сергей ЗенкинМарсель Пруст в преддверии романа
Свои статьи и очерки, собранные позднее под названиями «Памяти убитых церквей» и «Смерть соборов», Марсель Пруст писал в 1900-х годах, как раз перед тем, как взяться за создание романного цикла «В поисках утраченного времени». Эти тексты – отнюдь не неверные шаги начинающего литератора[1]; в них серьезно и глубоко прописаны эстетические позиции, на которых он стоял и которые, собственно, и потребовали в дальнейшем романного, а не только эссеистического выражения. Это своего рода преддверие «Поисков…» – архитектурная метафора вполне уместна, ибо здесь много говорится о старинных соборах и их скульптурных порталах.
Чтобы лучше понять эти тексты, начнем с их заголовков. Написанные, как уже сказано, в 1900-х годах, они получили окончательную форму в 1919-м, войдя в сборник малых произведений Пруста «Подражания и смесь». Тогда же появился и патетический заголовок «Памяти убитых церквей», а сразу вслед за ним – как бы опровергающий его и также вновь придуманный для этой публикации заголовок первой части цикла: «Спасенные церкви» (собственно, ни об одной реально «убитой» церкви во всем цикле и не говорится). Дело в том, что в промежутке между написанием и книжным изданием произошла Первая мировая война, в ходе которой военные действия на Западном фронте развернулись главным образом на территории Франции и многие французские города и деревни тяжело пострадали. Особенно болезненно было воспринято разрушение исторических храмов – в частности, знаменитого Реймсского собора в Шампани, превращенного в руины германской артиллерией в сентябре 1914 года. Это событие вызвало много откликов. Ромен Роллан, знаменитый автор романа «Жан-Кристоф», выступил с памфлетом «Pro aris» («В защиту алтарей»), где обличал варварство германской армии. Несколько лет спустя, в 1918 году, маленькую брошюрку «Собор Реймсской Богоматери» – о разрушенном соборе, для восстановления которого требуется общая не только материальная, но и духовная работа, – выпустил никому еще не известный юноша по имени Жорж Батай, сам живший до войны в Реймсе, а в дальнейшем ставший одним из самых оригинальных и глубоких французских писателей XX века. И тот, и другой были далеки от официально-патриотической пропаганды (Роллан – с первых дней войны, Батай – скорее в последующие годы, на протяжении которых он никогда не упоминал больше свою юношескую брошюру), но идея защиты памятников культуры, можно сказать, носилась в воздухе, на нее откликались самые разные по духу интеллектуалы. Откликнулся на нее и Марсель Пруст.
Но смысл его заголовков – не только бедствия войны. Ведь один из них, «Смерть соборов», не придуман задним числом, а появился уже при первой публикации соответствующей статьи задолго до войны (вероятно, он и подсказал Прусту новый заголовок цикла «Памяти убитых церквей» – но он же и заставил вывести за рамки цикла сам этот текст, дабы часть не называлась почти так же, как целое). Повод для того, первого заголовка был другой, «мирный», – новый закон об отделении церкви от государства, который вел, помимо прочего, к закрытию многих храмов в стране и к утрате прекрасных обрядов, которые в них отправлялись. Повод – другой, а пафос прустовской статьи – тот же самый, как бы предвосхищающий еще далекую войну.
Средневековые памятники зодчества еще с романтической эпохи стали восприниматься в Европе как величественные, но и хрупкие, уязвимые остатки исторического прошлого – что-то вроде динозавров, останки которых как раз в ту же пору открывались и восстанавливались учеными. Сначала английские готические романисты научили европейскую публику ощущать в средневековой архитектуре вместилища иного, чуждого, потенциально опасного пространства. Потом те же средневековые здания стали восприниматься как достояние национальной культуры, в середине XIX века французский архитектор Виолле-ле-Дюк прославился их реставрацией, порой весьма вольной по отношению к первозданному облику сооружения. Еще раньше во Франции развернулась дискуссия о так называемой черной банде – земельных спекулянтах, которые скупали поместья у обедневших аристократов и распродавали их по частям мелким хозяевам, а те ничтоже сумняшеся сносили стоявшие там феодальные замки. Против действий «черной банды», в защиту национального наследия писал обличительные стихи молодой романтик Виктор Гюго, а либеральный публицист Поль-Луи Курье в своих памфлетах возражал, что новые землевладельцы-крестьяне, может, и не чтут наследственных развалин, зато куда лучше хозяйствуют на земле и тем самым способствуют процветанию современной Франции… Наконец, в 1831 году тот же Виктор Гюго выпустил книгу, имевшую самый мощный резонанс в спорах о готике, – роман «Собор Парижской Богоматери», в котором признавал неизбежную гибель средневекового монументального искусства в силу эпохального перехода от цивилизации соборов к цивилизации книг («Это убьет то»). Одним словом, мысль об умирании готических зданий, о необходимости защищать их от «убийства» современной цивилизацией имела ко времени Пруста уже вековую традицию. Эти сооружения стало привычным рассматривать не как странные и уродливые обломки темного Средневековья, а как важнейший и ценнейший элемент культуры. Слово «культура» сильно задержалось с появлением во французском языке, и сам Пруст употребляет его лишь в кавычках, да еще и со ссылкой на иностранного, американского автора («Конечно, для какого-нибудь Эмерсона „культура“ значит так же много…»); но идея культуры существовала еще до словесно оформленного понятия, и Пруст был к ней весьма чуток.
Сегодня нам достаточно хорошо известно, что «защита культуры» ведет к двойственным последствиям. Стоит признать нечто «памятником культуры», который дулжно хранить и изучать, как сам этот «памятник» неизбежно меняется, фактически даже искажается, поскольку попадает в другую систему функций. Как старинная прялка, помещенная в музей, выпадает из технологического и социально-экономического оборота, в котором она участвовала, пока ее вертела рука пряхи, так и готический собор, объявленный частью культурного достояния, неизбежно удаляется от своего первоначального религиозного назначения. И тут уже неважно, служат ли в нем по-прежнему мессы или его превратили, как иронизирует Пруст, «в музей, лекторий или казино». В статье «Смерть соборов» молодой писатель призывает сохранить церкви действующими – «иначе из них уйдет жизнь», – но в обоснование своего призыва он приводит какие-то странные, нерелигиозные по сути доводы, обличающие не просто личный атеизм (скажем осторожнее, агностицизм) автора, но и новый культурный статус тех самых церквей, за которые он ратует. В церковной службе он усматривает сложную, изощренно разработанную систему символов – и даже вспоминает кстати строку из знаменитого «символистского» стихотворения Бодлера «Соответствия», – но обходит молчанием те действительные моральные, политические и иные функции, которые религия выполняла в эпоху постройки готических храмов и которых она уже не может более выполнять в современную эпоху. Он уподобляет богослужение старинному театральному спектаклю, воссозданному учеными знатоками, а в подтверждение интереса современной литературы к церковным обрядам цитирует описание соборования Эммы Бовари у Флобера – умалчивая о том хорошо известном факте, что именно это описание, наряду с другими пассажами, в 1857 году явилось одним из оснований для судебного преследования флоберовского романа за «безнравственность» и оскорбление культа. Религия плохо уживается с современной «культурой», они во всем вольно или невольно отрицают друг друга, выхолащивают друг в друге самое главное.
Той же двойственностью отмечены занимающие главное место в прустовском цикле об «убитых церквах» тексты, посвященные знаменитому на рубеже веков английскому писателю, художественному критику, социальному мыслителю Джону Рёскину. Эти два текста в 1904 году вошли в состав большого предисловия Пруста к изданию его перевода «Амьенской Библии» Рёскина[2] – книги, речь в которой идет об одном из самых знаменитых французских готических соборов и которая тоже принадлежит к традиции защиты угасающей «культуры»[3].
Обширное эссеистическое наследие Рёскина вызывало у молодого Пруста чувство восхищения – и в то же время интеллектуальное беспокойство. Не соглашаясь с попытками охарактеризовать творчество этого автора как «религию Красоты» и утверждая, что «главной религией Рёскина была просто религия», он вместе с тем вынужден – чтобы «бороться с самыми дорогими [его] сердцу эстетическими впечатлениями, <…> довести до последних и самых беспощадных границ честность мысли» – вполне определенно признать, что от этой «просто религии» английский писатель всё время отступал, впадал в «идолопоклонство»: «Грех совершался непрерывно – в выборе объяснения для любого факта, в каждой оценке произведения искусства, в самом выборе слов, совершаемом при этом, – и в конце концов сообщал уму, который ему предавался, некую постоянную фальшь». Подобно другому художественному кумиру Пруста, французскому живописцу конца XIX века Гюставу Моро, Рёскин повинен в «неприятии изображения в искусстве сильных страстей», в «некотором фетишизме в любви к символам как таковым», в преувеличенном внимании к красоте отдельных форм, тогда как «любая частная форма, как бы прекрасна она ни была, ценна лишь постольку, поскольку в ней воплотилась частица беспредельной красоты…» Смущенные оговорки, которыми Пруст обставляет свои критические замечания, говорят не только о вежливости неофита по отношению к уже покойным мэтрам, но и о том, что эстетические «грехи», «фетишизм» и «идолопоклонство» не чужды ему самому, кажутся ему чем-то неизбежным, если не достойным оправдания. Действительно, они прямо вытекают из современного – «культурного» – взгляда на наследие прошлого.
Джон Рёскин сам настаивал на различии между «религиозными» и «суеверными» произведениями, причем под «суеверием» понимал именно идолопоклонство, почитание слишком конкретных, ограниченных и ревнивых богов. «Суеверие, – писал он, – обратило в кумиры великолепные символы, которыми выражалась вера, оно поклоняется не истине, а картинам и камням, не делам, а книге и букве…»[4] «Религиозный» автор провидит за конкретными формами единую и вечную божественную «истину» (или «беспредельную красоту»), тогда как «идолопоклонник», по словам Пруста, «это человек, не исповедующий никакой иной веры, кроме веры в красоту, не признающий никакого иного бога и проводящий жизнь в сладострастном наслаждении созерцанием произведений искусства», то есть эстетических продуктов религиозного сознания.
Собственный выбор Рёскина, столь импонирующий Прусту и одновременно столь смущающий его, состоял в том, чтобы «проводить жизнь в созерцании произведений искусства», неустанно меняя предметы своего созерцания и таким образом как бы убегая от каждого частного предмета обожания, не давая ему превратиться в настоящего идола. Рёскин, одобрительно замечает Пруст, не любил возвращаться к уже описанным им произведениям искусства, в своих многочисленных книгах он старался отразить многообразие эстетического опыта: «То была чарующая игра владельца неисчерпаемого богатства – вынимать из дивных ларцов памяти всё новые и новые сокровища: сегодня драгоценный круглый витраж Амьена, завтра золотистое кружево абвильской паперти, – чтобы взглянуть на них в сочетании с ослепительными драгоценностями Италии».
Задача этой рискованной интеллектуальной игры – количеством преодолеть качество, множественностью художественных впечатлений компенсировать их «секуляризацию», утрату единого абсолютного смысла. Слово «грех», употребляемое Прустом, говорит о том, что новую культурную ситуацию он переживал именно как отступление, отступничество от традиционных религиозных основ духовной жизни (независимо от той или иной конкретной религии). Подобную проблему решали в разных формах и с разным успехом многие писатели, связанные с традицией французского эстетизма XIX века: Теофиль Готье, Шарль Бодлер, Стефан Малларме, Жорис-Карл Гюисманс… Она же подспудно присутствует и у других авторов, которых сочувственно упоминает Пруст: в XVIII веке – веке у естествоиспытателя академика Бюффона, противопоставлявшего «умственные красуты» неповторимо индивидуального стиля расхожим и всеобщим истинам, которые высказываются в произведениях, созданных в этом стиле; на рубеже ХIХ – ХХ веков – у модного писателя-националиста Мориса Барреса, пытавшегося вырастить новую, здоровую культуру Франции из множественных «корней», привязанных к той или иной провинции или местности… У Пруста эта проблема ставится с тревогой и неудовлетворенностью юношеского максимализма, и для ее решения молодой писатель пытается по-новому, оригинально осмыслить уже проторенные пути.
В поисках многообразных впечатлений человек эстетической культуры не знает покоя, колесит от собора к собору, от картины к картине. Его любимый способ осмотра памятников – прогулка, обзор на ходу: поездка на автомобиле, вылазка в город во время стоянки поезда на промежуточной станции, экскурсия к храму по разным дорогам в зависимости от погоды. (Здесь уже предвосхищены некоторые мотивы романа «В поисках утраченного времени»: и топография – связанная с погодой! – детских прогулок «в сторону Свана» и «в сторону Германтов», и мечтательные рассуждения об «имени стран», и поездки юного Рассказчика в Бальбек…) Но и каждый отдельный художественный памятник воспринимается таким человеком как множество частных впечатлений, деталей, «символов». Пруст неодобрительно отзывается о том, каким образом Виктор Гюго читал «книгу» собора Парижской Богоматери, и восхваляет Рёскина, для которого портал Амьенского собора – «не в туманном смысле Виктора Гюго „каменная книга“, „каменная Библия“: это Библия настоящая, воплощенная в камне». По сути, речь идет о том, что французский романтик воспринимал готический собор как целое, обладающее «туманным» историософским смыслом [5], тогда как Рёскин, единомышленник прерафаэлитов, разглядывает и тщательно, чуть ли не квадрат за квадратом, описывает бесчисленные изображения на этом соборе, в которых воссоздано всё богатство библейских сюжетов. У Рёскина Библия как бы дословно переведена на язык пластических образов; казалось бы, это должно было оттолкнуть мечтательного эстета Пруста – но нет, именно в этом буквализме и подробностях он открывает для себя широчайшие перспективы сотворчества. Его немецкий современник Аби Варбург, не менее страстный ценитель итальянской живописи, говорил: «Бог – в деталях», – имея в виду, что именно в неприметных «мелочах» картины открываются подлинная оригинальность и «божественный» дар мастера. Прусту, вероятно, пришлись бы по душе эти слова: детальное, тщательное обследование произведения искусства сулит на каком-то этапе миг счастливого единения с теми людьми, которые его сотворили или же созерцали прежде, – чудо обретенного времени.
Описывая по следам Рёскина свой осмотр Амьенского собора, Пруст с видимым удовольствием отмечает такую узнанную из книги и опознанную вживе «деталь»: «<…> в ту минуту, когда моему взору открылся южный портал, я увидел слева, там, где указывал Рёскин, упомянутых им нищих, причем таких старых, что, похоже, это были те же самые. Радуясь возможности так быстро приступить к исполнению его рекомендаций, я тут же бросился подавать им милостыню, тешась иллюзией – не без примеси мною же осужденного недавно фетишизма, – будто я совершаю тем самым высокий акт поклонения Рёскину» Проскользнувшее здесь слово «иллюзия», разумеется, вполне оправдано, как объяснимо и сложное чувство, обуревающее автора, – эйфория и самокритика одновременно. Действительно, живые нищие, пусть даже и «такие старые, что, похоже, это были те же самые», – ненадежный предлог для духовного контакта с предшественником: люди стареют и умирают, и на самом деле перед молодым Прустом, возможно, уже новое поколение бедолаг, а не те, кого двадцать лет назад встречал Рёскин.
Иное, более глубокое и длительное переживание связи времен даровано Прусту при осмотре другого собора, также описанного английским ценителем красоты, – Руанского (для французского писателя он хранит еще и память о гении Клода Моне, изобразившего его в серии полотен): это переживание связано с крохотной, невзрачной фигуркой простого подмастерья, чудом обнаруженной среди множества других, изваянных на церковном фасаде, благодаря описанию и иллюстрации в одной из книг Рёскина. Здесь стоит привести слова самого Пруста:
«Скульптор, умерший несколько веков назад, оставил нам среди тысяч других этого маленького человечка, который умирает понемногу каждый день и который мертв уже давно, ибо затерян навеки среди толпы ему подобных. Но он был создан когда-то, и скульптор отвел ему это место. И вот однажды человек, для которого нет смерти, нет всесилия материи, нет забвения, человек, который отшвырнул прочь от себя это подавляющее нас небытие, чтобы идти к целям, главенствующим в его жизни и столь многочисленным, что всех их достичь невозможно, тогда как нам их явно не хватает, – этот человек пришел и в каменных волнах, где каждый клочок кружевной пены кажется похожим на остальные, увидел все законы жизни, все помыслы души и всему дал имя, сказав: „Смотрите, вот это называется так-то, а это – так-то“ <…>. И неприметная уродливая фигурка воскресла, вопреки всем ожиданиям, избегнув той смерти, наиболее полной из всех прочих смертей, которая есть исчезновение в неисчислимой массе, в обезличивающем сходстве с другими, но откуда гений успел вовремя извлечь и ее, и нас. Встреча с ней не может не взволновать. Она словно продолжает жить и видеть, вернее, кажется, будто смерть, остановив ее взгляд, застигла ее врасплох, как окаменевших в движении жителей Помпеи. Это и в самом деле так, ибо здесь застыла остановленная в своем движении мысль скульптора. Я был взволнован встречей: значит, ничто из того, что жило, не умирает, и мысль скульптора так же бессмертна, как мысль Рёскина».
Грандиозная, мифологизированная фигура Рёскина, нарисованная здесь, не может не привлечь к себе внимания; пожалуй, это уникальный случай в мировой литературе, когда художественный критик представлен не мелочным эрудитом, а каким-то богом-демиургом, который дарует вещам имена и тем спасает их от исчезновения в бесформенной стихии. А кроме того, он играет еще и роль чудесного посредника, который связует духовными узами современного писателя, с книгой в руке осматривающего соборный портал, и безымянного средневекового скульптора, изваявшего некогда на этом портале чью-то фигурку, – а заодно и вовсе безвестного прототипа этой фигурки, увековеченного сначала в камне, а затем и в слове. Писатель специально подчеркивает эстетическую и этическую незначительность изображенного «подмастерья» – у этого «маленького уродца» «убогая физиономия», «злое и неискреннее <…> лицо»; но такова уж, по Прусту, природа переживания «памятников культуры», что в них волнует не единое, целостное духовное впечатление, указывающее на присутствие божественного духа, а скорее некий незначительный, но безукоризненно правдивый фрагмент или художественный эффект, – так в «Поисках…» умирающий писатель Бергот будет вспоминать не всю картину Вермеера целиком, а лишь какой-то особенный оттенок желтого цвета. Здесь Пруст выступает наследником эстетики французского реализма XIX века, эстетики Флобера и Золя, характеризующейся культом отдельной, бесконечно выразительной детали; и одновременно – зачинателем новой художественной традиции ХХ века, когда завороженное вглядывание, вслушивание, вчувствование в ничтожную, казалось бы, вещь (знаменитый бисквит-мадленка в начале прустовского романа) стали переживаться как род мистического опыта, как преодоление смерти и восстановление утраченного времени.
В сцене чудесного обретения описанной у Рёскина каменной фигурки присутствует еще один эпизодический персонаж – «г-жа Йетмен, молодой талантливый скульптор с большим будущим»; именно она указывает автору очерка на искомое изваяние («Вот этот, кажется, похож»). Об отношениях Марселя Пруста с этой женщиной ничего особенного не известно, но самим своим присутствием она указывает на возможность каких-то особых аффективных отношений между людьми, совместно исследующими мир прекрасных творений культуры. В первом очерке прустовского цикла – «Дни в автомобиле» – сходную картину являет короткий блестящий эпизод, где рассказчик осматривает фасад старинного храма в темноте, при движущемся свете автомобильных фар. Здесь целый ряд значимых моментов: и то обстоятельство, что собор описывается лишь снаружи, словно неверующий писатель не решается заходить внутрь (сходный прием – в очерке «Смерть соборов»: о церковной службе автор рассказывает не по собственным впечатлениям, а пространными цитатами из ученой книги – как будто ему самому не приходилось при подобном присутствовать); и уже упомянутый подвижный ракурс обозреваемого сооружения, как в знаменитом впоследствии описании Мартенвильских колоколен в в первом томе «Поисков…» и изысканно-эстетский образ, в котором новейший предмет быта современных богачей – автомобиль – становится поводом для волшебного, как бы религиозного видения («Когда я вернулся назад, я увидел столпившихся у машины любопытных ребятишек: они склоняли головки над фарой, и кудри их трепетали в этом сверхъестественном освещении, словно в луче проекционного фонаря, переносящего сюда из собора образы ангелов с фрески Рождества»); и наконец, аффективная организация всей сцены, где рассказчика сопровождает близкий, любимый – впоследствии трагически погибший – человек, «изобретательный Агостинелли», который движущимся лучом фары как раз и помогает ему, подобно «г-же Йетмен» в сцене с фигуркой из Руана, узреть нездешнюю красоту храма. В этом маленьком эпизоде уже содержится в зародыше романная структура, разработкой которой Прусту предстояло заняться в последующие годы, чтобы в огромном повествовательном цикле поместить эйфорическое переживание знаков искусства в контекст трудного, противоречивого постижения других, пустых или лживых знаков, которыми обмениваются люди в светском и любовном быту [6]. Отрывочные моменты, когда человек культуры постигает связь времен и абсолютную суть «убитых» памятников религиозного искусства, требовалось связать в целостную историю уже не «духовного» (религиозного), а именно культурного становления человеческой личности, характерного для современной, секуляризованной цивилизации. Из религиозно-эстетических очерков нужно было сделать роман.
Что из этого получилось, известно читателям «Поисков утраченного времени». Здесь же перед нами та отправная точка, из которой развивалось дело его жизни.
С. Зенкин
Памяти убитых церквей
Глава 1
Спасенные церкви. Колокольни Кана. Собор в Лизьё

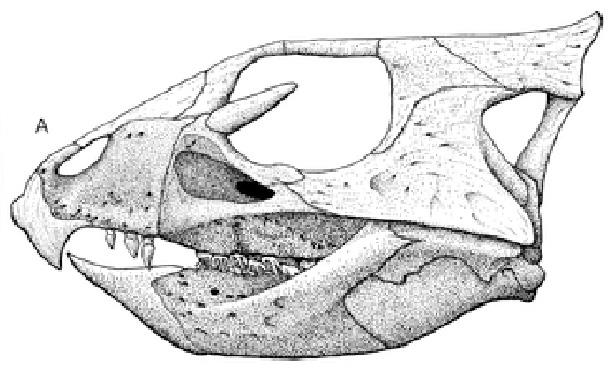

Дни в автомобиле
Выехав из… довольно поздно после полудня, я должен был торопиться, чтобы успеть добраться засветло до дома моих родителей, расположенного примерно на полпути между Лизьё и Лувье. Справа, слева и впереди был как бы взят под стекло закрытыми окнами автомобиля чудесный сентябрьский день, который даже снаружи виделся сквозь некую прозрачную пелену. Едва заметив нас издали, старые кривобокие домишки, сгорбившиеся у дороги, бросались бежать нам навстречу, протягивая несколько свежих роз или с гордостью показывая выращенную ими молодую штокрозу, уже переросшую их самих. За ними приближались следующие: с нежностью опираясь на грушевое дерево, они воображали в старческой слепоте, будто сами все еще поддерживают его, и прижимали его к своему износившемуся сердцу, где навеки отпечатались и застыли хилые, но пылкие лучи его кроны. Вскоре дорога сделала поворот, склон, тянувшийся справа, сгладился, и открылась долина Кана, но без самого города, который, хотя и был заключен в пространство, лежащее перед моими глазами, оставался невидим и даже не угадывался из-за дальности расстояния. Над плоской равниной, словно затерянные в чистом поле, одиноко возвышались лишь две устремленные к небу колокольни церкви св. Стефана. Скоро их стало три: к ним примкнула колокольня св. Петра[7]. Соединившись на горизонте в трезубец, они высились вдали, как на тёрнеровских пейзажах монастырь или замок, которые дают свое название картине, но занимают так мало места среди необъятного пространства неба, зелени и воды, что кажутся столь же преходящими и недолговечными, как радуга, предвечерний свет или маленькая фигурка крестьянки на первом плане, бредущей по дороге с корзинками в обеих руках. Минута проходила за минутой, мы ехали быстро, но эти три колокольни по-прежнему виднелись перед нами в одиночестве, похожие на слетевших на землю неподвижных птиц, явственно различимых в лучах солнца. Потом даль неожиданно рассеялась, как туман, за которым вдруг проступают четкие и законченные очертания предмета, невидимого секунду назад, и появились башни церкви св. Троицы, вернее, одна из башен, полностью заслонявшая собой другую. Но вот она отодвинулась, другая выступила вперед, и обе они встали рядом.