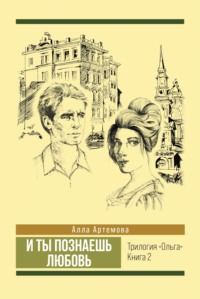
И ты познаешь любовь
Это придало ей смелости, и она сказала:
– У меня есть еще одна новость, думаю, она вас заинтересует, – Эдит щелкнула замком дамкой сумочки и вынула небольшой лист белой бумаги, сложенный вдвое. – Вот, посмотрите.
Генрих развернул лист и стал с интересом рассматривать его.
– Этот рисунок Ольга сделала всего за две минуты. Но взгляните, какое поразительное сходство, а ведь я даже не позировала ей. Ольга просто взяла карандаш и как волшебник, легко и изящно провела несколько толстых и тонких штрихов, и вот… эскиз готов.
– Д-а-а, прекрасно, – Генрих словно зачарованный смотрел на рисунок, не в силах оторвать взгляд.
Он вдруг вспомнил, как неделю назад застал Ольгу одну в гостиной. Она любовалась картиной голландского художника портретиста Франса Халса, висевшей над камином. В ее взгляде было восхищение и какое-то благоговение, и Генрих невольно застыл у двери, любуясь девушкой. Ольга была необычайно обворожительна и мила, и Генрих еле сдержал себя, чтобы не заговорить с ней. Но это был миг, всего лишь миг. Ольга интуитивно почувствовала чье-то присутствие и резко повернулась. Она с презрением посмотрела на Генриха и, гордо вскинув головку, прошла мимо, даже не взглянув на него, словно он был пустым местом.
– Она этому училась где-нибудь? – спросил Генрих, продолжая любоваться рисунком.
– Непосредственное влияние, по словам Ольги, на нее оказал сельский учитель рисования, то ли Фоменко, то ли Федоренко… впрочем, это не столь важно. Он первым обратил внимание на способности Ольги к рисованию и стал заниматься с ней индивидуально помимо школьной программы. Ольга рассказала, что рисовать начала запоем очень рано, чуть ли не с трех лет. Она рисовала по воображению или с натуры, а вот перерисовывать с картинок не любила, остро ощущая, что это не ее. Ольгу занимал сам процесс рождения образа, как она выразилась, «ниоткуда». А когда ей исполнилось четырнадцать лет, – Эдит бросила робкий взгляд на Генриха. – Может быть, это вам неинтересно?
– Рассказывай, я слушаю тебя с большим вниманием, – Генрих положил рисунок на стол и потянулся за сигаретой.
– Отец за большие деньги купил ей краски. Ольга сделала кисть из шерсти, надерганной из шубы матери, прикрепила холст к деревянной рамке, которую смастерил старший брат, и стала по памяти рисовать свою деревню. Она была очень увлечена работой, но когда закончила картину, со злостью отбросила кисть на пол и обеими руками закрыла глаза. «Браво, брависсимо! – закричал вдруг старший брат и кинулся к Ольге. – Ты талант, огромный талант, ты наша гордость и наша слава». Но Ольга даже бровью не повела в ответ на пламенную речь брата. Она убрала руки с лица и воспаленными глазами уставилась на картину. С каждой секундой она становилась все мрачнее и мрачнее. Потом, болезненно сморщив лицо, Ольга с болью выкрикнула: «Картина мертвая, в ней нет жизни, нет звуков». «Ольга, о чем ты? Картина чудесная. Да и какие звуки могут быть в картине?» – возразил брат. «Она мертвая…» – со злостью повторила Ольга и, бросившись к картине, сорвала с рамы и стала рвать на куски. Брат был поражен поступком сестры и стоял как парализованный, не в силах ей помешать. Звуки… Мне это тоже непонятно. И когда я сказала об этом Ольге, она улыбнулась и задумчиво произнесла: «Мы живем ускоренным темпом и нам некогда прислушиваться к звукам, которые вокруг нас, которые в нас, и все это делает нашу жизнь серой, будничной. Скажи, ты когда-нибудь наблюдала зарево восхода или закат солнца?». Я смущенно пожала плечами. «Это потрясающее зрелище, оно целиком захватывает тебя и переносит в мир чувств, которые невозможно описать словами. Человеческий язык слишком беден, чтобы передать великое таинство природы, происходящее на твоих глазах. А художник, если он настоящий художник, посредством палитры красок может заставить тебя пережить эти чувства. Ты смотришь на картину, на которой изображен ураган, сметающий все на своем пути: деревья, хозяйственные постройки, ветхие жилища, и тебе кажется, еще мгновение – и ураган подхватит тебя, словно маленькую песчинку, и унесет за собой. И если художнику удалось внушить тебе подобные чувства, то его картина – живая и в ней есть звуки».
– Как, оказывается, можно красиво выражать свои мысли, – произнес Генрих и покачал головой. – Эдит, можно я оставлю себе этот рисунок?
– Конечно.
Вдруг раздался глухой треск, включился селектор, и секретарша сказала:
– Господин Дитрих, к вам господин Прост. Вы примете его или ему подождать?
Эдит встала и, сжимая в руках дамскую сумочку, поспешила откланяться.
– Не буду больше занимать ваше время, господин Дитрих, тем более я уже все вам рассказала. До свидания, – Эдит, поклонившись, направилась к двери.
– Эдит, – окликнул девушку Генрих.
Витхайт повернулась.
– Спасибо. Я жду тебя в следующую среду.
– Хорошо.
Генрих щелкнул тумблер селектора.
– Сайда, скажи господину Просту, что он может войти.
Эдит не успела взяться за дверную ручку, как дверь широко распахнулась, и на пороге возникла фигура молодого высокого мужчины плотного телосложения. При виде девушки на его лице моментально появилась обворожительная улыбка, которая, по мнению ее обладателя, не могла оставить равнодушной ни одну представительницу женского пола. Мужчина галантно отступил назад, пропуская Витхайт. При этом его взгляд скользнул по фигуре девушки и зафиксировал в памяти, как на кинопленке, все достоинства и недостатки рассматриваемого объекта.
Как только за Эдит закрылась дверь, мужчина с нескрываемым любопытством спросил:
– Кто эта девушка? Я никогда раньше не встречал ее у тебя. Она очередная вкладчица вашего банка или… – мужчина негромко хихикнул. Широко расставляя ноги, он приблизился к столу и, не дожидаясь приглашения, плюхнулся в кресло. – Ну и жара сегодня.
Генрих включил вентилятор.
– Питер, ты, как всегда, в своем репертуаре. Скажи честно, тебя кроме женщин еще что-нибудь в жизни волнует?
Прост плотно сжал губы и потер кончик носа.
Питер Прост, тридцатипятилетний сотрудник частного рекламного агентства «Ходжер», появился в поле зрения Генриха буквально на второй день его вступления в должность. Генрих не мог даже вспомнить, с каким вопросом Прост обратился тогда к нему. Через пять минут они были уже на «ты», а через час сидели в кафе напротив «Швейцеришен банкферейна». С первой минуты их знакомства Питер понравился Генриху. Он по характеру был похож на Ганса Вольфа, друга детства Генриха. Та же раскованность в общении с людьми и неуемная энергия, которую они оба направляли на то, чтобы привлечь к себе внимание женщин. Правда, Ганс, когда знакомился с женщиной, почти всегда влюблялся в нее, считая, что наконец-то встретил ее… единственную и неповторимую. Питер же был заведомо уверен, что бросит женщину, как только та уступит его мужским домоганиям, поскольку утратит для него всякую привлекательность. Питеру доставляло большое наслаждение добиваться своей цели, а не пожинать плоды своих любовных побед. Прост был женат на Мэрилен – единственной дочери миллионера Зиглера. Но он никогда не любил об этом распространяться. Его тесть – совладелец фирмы «Ротманс Интернэшнл», выпускавшей сигареты – был человеком крутого нрава, и на желание дочери выйти замуж за Питера ответил категорическим отказом. Он считал это очередным ее капризом. Но Зиглер совсем не знал свою дочь, которая не покорилась его воле и соединила свою судьбу с Простом. Они были женаты почти четырнадцать лет и жили на деньги, которые Питер получал, работая в рекламном агентстве. Единственный подарок, который сделал Зиглер своей дочери, был великолепный дом, расположенный в живописном месте на вершине горы. Он был построен для Мэрилен в то время, когда она еще не была замужем, но сделан предусмотрительно большим, чтобы в случае ее замужества было где разместить мужа и детей. В этом доме и жил Питер с женой. Детей у них не было, и это очень омрачало их жизнь.
– Волнует ли меня что в этой жизни? – Прост усмехнулся и, убрав руку с лица, тихонько забарабанил по краю стола. – Знаешь, Генрих, когда я был значительно моложе, то увлекался живописью, мечтал даже стать художником.
Генрих удивленно вскинул глаза на Питера.
«Положительно сегодня день сюрпризов», – подумал он и вслух произнес:
– Ты никогда мне об этом не рассказывал.
– Возможно. Давно это было. Зеленый я был тогда и наивный, мечтал о славе и мировой известности, поскольку считал себя талантливым. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, поехал в Цюрих поступать в художественную академию. И, представь себе, на первом же экзамене провалился. Я не поверил… нет, этого не может быть, это ошибка. На следующий год – я опять в числе абитуриентов, и снова провал. «Молодой человек, вы безнадежно бездарны, – был приговор одного из профессоров академии. – Не тратьте попусту время, а займитесь лучше делом, которое соответствует вашим способностям». И опять я не поверил, больше того, разозлился и решил доказать всем, что они неправы. Нашел одного более-менее известного художника и стал брать у него уроки рисования. Учитель мой стойко занимался со мной два месяца, а на третий не выдержал. Он сказал мне почти то же самое, что и профессор в академии, только более корректно. Его устраивали деньги, которые я платил ему за работу, и поэтому он два месяца боролся с искушением потерять их. Но профессиональная гордость победила. После этого я долго не мог устроиться на работу. И вот однажды я прочитал в газете объявление рекламной фирмы «Ходжер», которая приглашала на конкурсной основе на работу художников-дизайнеров. Я решил рискнуть. И, на мое счастье, меня приняли. Художник из меня не получился, зато за годы работы в агентстве я стал неплохим специалистом в области рекламы.
– Слушай, рекламный работник, – Генрих не смог сдержать улыбки, – а что ты скажешь об этом?
Генрих протянул Просту эскиз, сделанный Ольгой.
Питер, рассматривая рисунок, прищурил глаза.
– Недурно, черт возьми, совсем недурно. Линии живые, легкие, подвижные, как бы сделанные с налета. Я бы сказал, это – музыка линий и штрихов. Генрих, откуда у тебя этот рисунок? Хотя постой… это же портрет девушки, которая выпорхнула из твоего кабинета. Точно, эта она. Генрих, скажи, а тебе не показалось, что я понравился ей? – Прост самодовольно улыбнулся, закинул ногу на ногу и щелкнул языком. – Думаю, мне следует познакомиться с ней поближе.
– Питер, прошу тебя, держись от этой девушки подальше.
– Почему? Впрочем, если ты сам имеешь на нее виды, тогда другое дело. Я никогда не встану на пути своего друга.
– Нет, я никакого отношения не имею к этой девушке. Но, зная тебя, не хочу, чтобы ты сделал ей больно, – категорично заявил Генрих, взял из рук Проста рисунок и положил на стол.
– Ты обижаешь меня. Что, по-твоему, означает «Сделать девушке больно»? – философским тоном вопросил Прост и погладил коленку. – Разреши мне дать тебе совет: никогда не решай за других. Человек непредсказуем, что плохо для тебя, для другого – рай небесный.
– Рай небесный?! Питер, не смеши. Ладно, оставим этот разговор, – Генрих откинулся на спинку кресла. – Так значит, ты считаешь, человек, сделавший этот рисунок, обладает талантом.
– Бесспорно.
– Прекрасно. Тогда еще один вопрос. Кто, по твоему мнению, из наиболее талантливых и почитаемых художников, проживающих в Швейцарии, может взяться обучать мастерству живописи?
– Интересный вопрос. Но, думаю, тобой руководит не только праздное любопытство.
– Несомненно.
– Хорошо… дай подумать, – Прост скрестил руки на груди. – Если тебя интересует мое мнение, то скажу следующее. Есть два художника, которые стоят на порядок выше тех, кого я знаю. Это голландец Карел Виллинк и швейцарец Жозе Говарт. Они разноплановые художники и каждый из них талантлив и неповторим по-своему, но все-таки я предпочел бы Говарта. Он ближе мне по стилю и духу восприятия окружающего мира. К тому же наша фирма не раз обращалась к нему за консультацией, как к специалисту высочайшего класса. Но хочу тебя огорчить, у Говарта никогда не было учеников. Какие только деньги ему не предлагали, какие только блага не сулили, но он был непреклонен. Похоже, не все талантливые живописцы могут быть хорошими педагогами, только так я могу объяснить нежелание Говарта иметь учеников.
– Жозе Говарт… Чем же он так примечателен, этот Говарт?
– Во-первых, это – европейский художник, и художник талантливый, а во-вторых, все его картины отличаются большим вкусом и особенным очарованием. Необычайно прелестны его женские портреты. Женские фигуры у него легки, грациозны и смотрят с полотен нежно и живо. Во всем творчестве Говарта прослеживается влияние романтизма, и это неслучайно, поскольку его учителями были знаменитые художники Круземан и Пико. В свое время о Говарте много писали, его имя часто мелькало на страницах газет и журналов. Сейчас шумиха вокруг него значительно утихла, и это вполне понятно, ведь художнику уже больше семидесяти лет, и он не так плодотворно работает, как в молодые годы. Последние две его картины выставлялись на Базельской международной выставке еще до войны и в мире искусства произвели фурор. – Питер посмотрел на Генриха и после минутного молчания без всякого перехода добавил: – Эскиз, который ты мне показал, выполнен девушкой и, возможно, очень молодой. Генрих, не возражай, – Питер поднял руки вверх. – Ты меня не обманешь… у меня глаз наметан. И знаешь, если тебе удастся уломать Говарта, то он придаст самородному таланту твоей протеже вид бриллианта в золотой оправе.
– Питер!!!
– Генрих!!!
А тем временем Ольга задумчиво сидела в гостиной и ждала Витхайт. Эдит была пунктуальной девушкой и больше чем на десять минут никогда не опаздывала. Раздался мелодичный звон часов. Ольга прислушалась.
Часы пробили три часа дня.
«Эдит заставляет ждать себя уже целый час», – подумала Ольга, глубоко вздохнула и взяла карандаш, который лежал перед ней на столе рядом с тетрадью, приготовленной для занятий по немецкому языку.
Она на минуту опустила голову, затем быстро выпрямилась. Что-то вспыхнуло и загорелось в глубине ее глаз, горькая улыбка искривила губы. Ольга открыла тетрадь на последней странице и крепко сжала карандаш. Перед глазами мгновенно появилась страшная картина. Девушка передернула плечами и под впечатлением нахлынувших чувств сделала несколько коротких и длинных пунктирных линий. Карандаш заскользил по бумаге виртуозно, быстро и уверенно, почти не увлекаясь деталями и тщательной разработкой формы, он был тверд и целенаправлен. Белая бумага в сопоставлении с линиями и штрихами и в их окружении постепенно превращалась в жанровую картинку. Полутемное пространство, лишь в самом центре несколько ярких лучей освещают фигуру немецкого офицера. Вид фашиста страшен. Он стоит, чуть согнувшись, широко расставив ноги. Мундир расстегнут, волосы взъерошены, одна рука запрокинута назад, другая сжата в кулак, который вот-вот обрушится на девушку, лежащую в бессознательном состоянии у ног немецкого офицера. Лицо девушки в крови. Темные пятна, следы крови видны повсюду. Именно на них Ольга акцентирует свое внимание, заставляя зрителя прийти в ужас и содрогнуться от увиденного на рисунке.
Ольга захлопнула тетрадь и, сжав кулаки, прошептала:
– Ненавижу!
V
– Кого я вижу! Подружка… заходи, заходи, – Мария Петровна широко распахнула входную дверь.
Клавдия Ивановна переступила порог и в нерешительности застыла посреди коридора.
– Мария, если я не вовремя, так ты скажи.
– Не узнаю тебя сегодня, Клавдия. Чудная ты какая-то. Что-то случилось? Так ты говори, не молчи… Знаешь ведь, нервы у меня на пределе, каждую минуту жду плохих известий, – с раздражением сказала Светлова.
– Успокойся, нет у меня никаких новостей для тебя. А зашла я поговорить с тобой, рассказать о своих проблемах. Но не знаю только, с чего начать, да и как ты к этому отнесешься.
– Не беспокойся, отнесусь, как надо, – с явным облегчением сказала Светлова. – Заходи, обсудим. Ты же знаешь, чем смогу, всегда помогу. Ну, а если нет, так не обессудь.
– Знаю… только вот вопрос больно щекотливый.
– Проходи на кухню. Я как раз перед твоим приходом напекла блинов, точно чувствовала, гости будут. Посидим, побалуемся чайком, ты и расскажешь о своих проблемах.
Клавдия Ивановна села на скамейку у окна и, положив руки на стол, при виде аппетитных, с подрумяненной корочкой блинов, которые высокой горкой лежали на тарелке, с явным одобрением покачала головой.
Мария Петровна поставила чашки, разлила в них чай и, пододвинув к гостье тарелку с блинами, сказала:
– Угощайся.
Клавдия Ивановна взяла самый верхний блин и, улыбнувшись, откусила маленький кусочек, затем потянулась за чаем. Светлова последовала ее примеру.
– Хороши, – похвалила Клавдия Ивановна и взяла еще один блин. – Я сама неплохо готовлю, но таких вкусных блинов печь не умею. Похоже, есть у тебя, Мария, особый секрет.
– Да какой там секрет, – Светлова махнула рукой. – Просто люблю я возиться с тестом, отношусь к нему с особой любовью и нежностью, вот результат и налицо.
– Хороши, – еще раз похвалила Орлова.
Подруги некоторое время помолчали.
– Слыхала, у Степаниды сын вернулся, – нарушила молчание Орлова и отодвинула пустую чашку в сторону.
Вытирая руки полотенцем, которое услужливо протянула ей хозяйка дома, она облизнула губы и поблагодарила за вкусные блины.
– Да, слыхала, – отозвалась Мария Петровна. – Бедный парень. Люди говорят, в концлагере он был. Фашисты отбили ему легкие, и теперь парень харкает кровью. Похоже, не жилец он на этом свете. Степаниду жаль. Помнишь, когда она получила известие, будто бы ее сын пропал без вести, так почернела, как обгоревшая головешка, а сейчас… с его возвращением стала еще чернее. Да и то сказать, каждый день смотреть на сына, который умирает на твоих глазах, и ни в силах ничем ему помочь. Разве есть более страшная мука для матери?
– И не говори… – Орлова плотно сжала губы и покачала головой. – Мой, вот, Григорий…
– А что с Григорием?
– Да все геройствует передо мной. Не беспокойся, мол, мать, все в порядке. Но разве материнское сердце обманешь? Вижу я, как мучают его жуткие боли, да такие, что он близок к обморочному состоянию. Но куда там… держится, не подает виду. И один Бог знает, чего это ему стоит.
– А Маша? Она ведь медсестра… Неужели и она не в силах ничем ему помочь?
– Нет. Кстати, о Маше. Хорошая она девушка, добрая и отзывчивая. Живет у нас всего два месяца, а стала уже полноправным членом семьи. Как-то спрашиваю ее: «Маша, тебе, наверное, пора домой уезжать. Родные, поди, заждались». Опустила она головку и тихо так отвечает: «Нет, никто меня не ждет. Одна я на белом свете. Родители бросили меня, когда мне было три года. Детдомовская я». И поверишь, Мария, так мне стало жалко ее. «А как же ты собираешься теперь жить?» – спрашиваю, с болью глядя на бедную девушку. «Хочу остаться в вашей деревне. Устроюсь работать медсестрой в больницу. С жильем, правда, не знаю, как быть. Возможно, со временем мне и дадут какую-нибудь комнатушку при больнице, но сейчас… Клавдия Ивановна, разрешите мне пока пожить у вас. Обещаю, как только устроюсь работать, так сразу же стану хлопотать о жилье». И что мне было делать, Мария? Согласилась я. А что было потом, ты сама знаешь. Устроилась девушка работать в больницу, а в жилье ей отказали. И все бы ничего, да… – Клавдия Ивановна глянула исподлобья на Светлову.
– Говори, чего уж там, – недовольным голосом сказала Светлова.
– Хорошо, скажу. Не буду ходить вокруг да около. Похоже, любит Маша Григория моего, без памяти любит.
– Ну а твой сын, что он?
– Григорий относится к Маше хорошо. Всегда внимателен к ней, предупредителен…
– Хватит, Клавдия, говори…
– Успокойся. Не любит он Машу, нет, не любит. Ведь ты это хотела услышать?
Мария Петровна, глядя поверх головы Орловой, молчала. В ее глазах появились слезы.
– Как-то ночью не спалось мне, – Орлова тяжело вздохнула, – пошла я на кухню воды попить. Прохожу мимо комнаты Григория… слышу: стонет он во сне и все Ольгу зовет.
– Боже мой, Боже мой, – Мария Петровна уронила голову и, обхватив ее руками, заплакала. – Олечка, девочка моя, где ты? Господи, молю тебя, спаси мою дочь. Если нужно, возьми мою жизнь, но спаси дочь. Гос-по-ди…
Клавдия Ивановна встала, подошла к Марии Петровне и обняла ее за плечи. Орлова громко всхлипнула.
– Подружка моя, Бог милостив. Он не допустит несправедливости. Жива твоя Ольга, жива.
– Ты так думаешь? – Мария Петровна еще раз всхлипнула и подняла глаза, полные слез, на Орлову.
– А ты верь, Мария, верь. Вера, ведь она что… она помогает не только жить человеку, но и спасает того, чье имя ты неустанно повторяешь в своих молитвах. И где бы сейчас не находилась твоя дочь, вера твоя защитит ее от всех несчастий и бед.
– Спасибо тебе, Клавдия, за добрые слова. Спасибо, – Мария Петровна покачала головой и вытерла слезы. – Так что ты хотела мне сказать? – через минуту напомнила она Орловой.
– Хотела попросить тебя принять Машу к себе на постой. Временно, конечно, пока она не получит комнату при больнице.
– Клавдия, но ведь…
– Мария, прошу тебя, не отказывай. Я бы никогда тебя об этом не попросила, но сплетни, которые носятся над Григорием и Машей, никак не утихают, а совсем наоборот – с новой силой разгораются. Маша девушка молодая, незамужняя, да и Григорий холостой. Лучше, как говорится, от греха подальше. Маша хорошая девушка, и тебе будет с ней не так одиноко дожидаться возвращения своих детей домой, – Клавдия Ивановна тронула Орлову за руку и заглянула ей в глаза, но та, резко отстранив ее, встала.
Подойдя к окну, Мария Петровна прислонилась к косяку и посмотрела на улицу. На бледном и утомленном лице Светловой были видны следы тяжелой внутренней борьбы.
– Хорошо, – наконец выдавила из себя Светлова, – приводи ее. Только… Сегодня у нас что? Понедельник? Так вот, приводи ее в четверг. Дай мне два дня. Должна же я привыкнуть к мысли, что девушка будет жить в моем доме.
– Договорились, – обрадовалась Орлова.
Клавдия Ивановна не сразу объявила Маше, что та должна переехать жить к Светловой. Лишь к исходу среды она решилась. Ее предложение было полной неожиданностью для девушки и повергло в смятение. Маша вмиг покраснела, потупила взор и до боли прикусила нижнюю губу. Глядя на девушку, Клавдии Ивановне стало жаль ее, ведь, в конце концов, она не виновата в том, что полюбила Григория.
– Маша, пойми меня правильно. Ты и Григорий… вы просто друзья, и я это знаю. Но люди… На каждый роток, как говорится, не накинешь платок.
– Да, да… я понимаю, – чуть не плача, произнесла Маша.
Тайна, которую она хранила в сердце и старательно скрывала от всех, была раскрыта. Тяжелое оцепенение, мешавшее собраться ей с мыслями, точно парализовало ее.
– Вот и хорошо, дочка. Собери свои вещи. Мария Петровна уже приготовила тебе комнату, так что завтра и пойдем.
Комната, в которую Мария Петровна решила поселить Машу, раньше принадлежала Ольге. В левом углу стояла железная кровать, рядом – массивный сундук, полученный Марией Петровной в качестве приданого от родителей, прямо напротив двери красовался стол из красного дерева, над которым висела самодельная книжная полка, а у окна – два стула. На подоконнике стояло несколько маленьких горшков с цветущей геранью. Тряпичная кукла, любимая игрушка Ольги, сидела на сундуке, покрытом самотканым покрывалом. На столе был сохранен тот же рабочий беспорядок, который царил и при Ольге. Стопка ученических тетрадей, несколько книг, затасканная картонная папка, в которой хранились рисунки и эскизы, сделанные Ольгой, черный уголек и перьевая ручка… Кажется, вот сейчас откроется дверь и войдет Ольга, и комната сразу же наполнится жизнью и солнечным светом.
– Живи, – распахнув дверь комнаты настежь, сказала Мария Петровна и удалилась на кухню, оставив девушку одну.
Маша, сжимая в руке маленький чемоданчик, нерешительно переступила порог и с нескрываемым любопытством оглядела комнату. Какая злая ирония судьбы! Она находится в комнате, в которой до недавнего прошлого жила, по существу, ее соперница, Ольга Светлова. Что было в этой девушке такого, чего нет в Маше Прохоровой? Почему Григорий, находясь рядом с Машей, все время вспоминает Ольгу? Ольга, даже находясь вдали от родных мест, стояла между ними. Дом, где жила Ольга, улица, по которой она ходила, школа, в которой она училась, и даже воздух – все дышало и жило воспоминанием о ней.
Григорий в первые дни приезда в деревню уделял Маше много внимания, так как знал, что у нее нет ни родных, ни знакомых, и поэтому чувствовал ответственность за судьбу девушки. Он показал ей деревню и познакомил со своими друзьями и знакомыми. Деревенская молодежь сначала отнеслась к Маше с некоторым предубеждением, но постепенно, по мере того как узнавали ее, изменили свое отношение к ней в лучшую сторону. Но даже после этого Маша не могла отделаться от мысли, что хотя они и приняли ее в свой круг, она никогда не станет им так же близка и любима, как Ольга Светлова. Решив остаться жить в деревне, Маша незаметно для себя прониклась ее духом и заботами. Ее покорили великолепные деревенские пейзажи, запах вспаханного чернозема, деревенская тишина и пение петухов. Особенно поэтично выглядела в жизни деревни так называемая «улица». Вечером после трудового дня деревенская молодежь собиралась на краю деревни у амбара. Гармонист Мишка Козлов, рыжеволосый, с вихрастым чубом парень, занимал самое почетное место на ступенях амбара, а молодежь рассаживалась рядом на бревнах. Пение задушевных песен и пляска под гармонь – какое же это было великолепное зрелище.