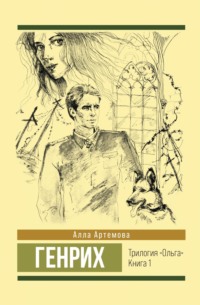
Генрих
– Обязательно. Так прямо и спрошу: «Товарищ генерал, механик Петров интересуется, когда будет наступление».
– Во-во… именно так и спроси, – и белое, усыпанное крупными веснушками, лицо механика Петрова расплылось в улыбке.
Григорий махнул рукой и быстро, не оглядываясь, зашагал к командному пункту 2-й танковой армии генерала Богданова. В воздухе то там, то тут слышался грохот артиллерийской канонады.
«Как все-таки приятно, когда бьют наши пушки, – подумал Григорий и усмехнулся. – Да… уже весна 1945 года, это тебе не 1942-й».
И он вспомнил, как холодным декабрьским днем 1942 года 2-я танковая армия вступила в бой с превосходящими силами противника чуть севернее населенного пункта Калач, а стоявшие всего в километре от них мощные гаубицы не поддержали их огнем, так как берегли последние снаряды. Чувство, которое Григорий испытывал к фашистам и которое пронес через все годы войны, было смесью ненависти и отвращения. В его памяти навечно запечатлелись страшные картины беспощадной расправы гитлеровцев над мирным населением: ребенок с раздавленной чем-то тяжелым головой, труп молодой женщины, возможно, матери ребенка, в глазах которой застыл безумный ужас, туловище человека, а в нескольких метрах от него изуродованная голова. Да, Григорий ненавидел фашистских извергов, ненавидел их за жестокость, немецкую самоуверенность и аккуратность, проявляющуюся даже в том, как они складывали в яму трупы расстрелянных ими людей.
Правда, в жизни Григория был один случай… странный случай, который он так и не смог понять, а тем более объяснить. Это произошло летом 1943 года. Невзрачная с виду высота на карте была обозначена маленькой чуть заметной точкой, но, видимо, был в ней какой-то особый смысл как для русских, так и для немцев. С одной стороны высота была окружена болотом, а с другой – лесистой местностью, поросшей высокой сочной травой. Русские танки медленно, широкой цепью двигались по направлению к высоте. Кругом была мертвая тишина. Но когда первая колонна танков была уже в пятистах метрах от высоты, раздался бешеный шквал артиллерийских залпов. Видимо, замысел фашистов в том и заключался, чтобы зенитным огнем расчленить движущиеся русские танки на две части, а затем поочередно уничтожить их. Это был настоящий поединок между русской танковой колонной и немецкой артиллерией. Танк Орлова оказался под прицельным огнем неприятеля, и через несколько минут в борт машины попал снаряд, который пробил его. Танк вспыхнул ярким пламенем. Оглушенный взрывом снаряда, Григорий несколько минут был в бессознательном состоянии, но когда пришел в себя, то ужаснулся. Весь его экипаж – механик-водитель Толик Скворцов, радист Сергей Гомеров и наводчик Николай Макарович Войнов – были мертвы. Григорий не помнил, как выбрался из танка. Кругом рвались снаряды, горела техника, а черный дым точно пелена закрывал знойное июльское солнце. Шатаясь, Григорий брел по полю, но вдруг взрывная волна от снаряда накрыла его. Очнулся Григорий от сильного удара в плечо. Он открыл глаза и попытался подняться, но тяжелый сапог со всей силой придавил его к земле. Десятка два немцев с автоматами в руках окружили его и, громко смеясь, показывали друг другу на него пальцами. Вдоволь насмеявшись, немцы приказали Григорию подняться и прикладами автоматов погнали к той самой высоте, которую русские войска в тот день так и не смогли отбить у немцев. В землянке, куда его привели, Григория подвергли жестокому допросу. Его били по спине, ногам и животу, а лицо тяжелым тупым предметом разбили в кровь. Григорий молчал. Всю ночь немцы забавлялись, пытаясь хоть слово выбить из русского танкиста, но все было напрасно. Ранним утром Григория решили расстрелять. Его вывели из землянки (сам он идти уже не мог, не было сил после зверских побоев). Было чудесное летнее утро, пели птицы и ласковое солнце пригревало с высоты. Григорий, чуть прищурив глаза, посмотрел на небо нежно-голубого цвета и без единого облачка. Затем его взгляд скользнул по кронам деревьев и остановился на залитой солнцем поляне. Лесной воздух, точно бальзам, настоянный на целебных травах и цветах, слегка дурманил голову. Григорию вдруг до боли стало жаль, что именно в такое прекрасное и совсем, казалось, мирное утро он должен умереть. В нескольких шагах от него стояли немецкие офицеры и, нагло улыбаясь, с интересом смотрели на него. Из всей компании больше всего привлекал к себе внимание майор – здоровяк под два метра ростом и весом не менее ста килограммов. Он просто умирал от смеха, глядя, как русский танкист еле держится на ногах. И Григорий не выдержал. Он повернулся в сторону майора и смачно плюнул ему в лицо. Фашист от неожиданности так и застыл с открытым ртом и выпученными глазами. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем немец осознал, что произошло. Рыча как раненый зверь, он выхватил из кобуры пистолет и бросился на Григория. Но тут другой офицер, в чине обер-лейтенанта, заслонил спиной Григория и стал что-то громко говорить майору. Майор еле сдерживал себя от злости, но по мере того, как говорил обер-лейтенант, злость его утихала. Через несколько минут он успокоился, спрятал пистолет в кобуру и, запрокинув голову, громко рассмеялся. Офицеры, стоявшие рядом, составили ему компанию. Обер-лейтенант даже не улыбнулся. Он резко повернулся в сторону Григория и жестом приказал ему спускаться вниз по склону горы. В руке обер-лейтенанта блестел на солнце парабеллум. Превозмогая боль, Григорий сделал несколько шагов и остановился. Перед глазами запрыгали красные зайчики, в ушах появился сильный шум, еще секунда – и он потеряет сознание. Качнувшись назад, Григорий почувствовал между лопатками сталь парабеллума. Немец толкнул его, и Григорий вынужден был продолжить путь. За то время, что они спускались вниз, Григорий несколько раз падал, но немец держал его на прицеле и молча ждал, пока он поднимется. Силы покидали Григория. Каждый шаг давался ему с невероятным трудом, сердце замирало, а по лицу и спине струился липкий неприятный пот. Но немец упорно гнал его вниз.
– Все, фашистская сволочь, не пойду дальше, – Григорий, шатаясь, повернулся к немцу. – Стреляй, гад! Русские танкисты принимают смерть, глядя ей прямо в глаза.
Немецкий офицер нетерпеливо махнул рукой, но Григорий не тронулся с места. Какая разница, где умирать? Смерть, где бы она ни настигла человека, навсегда останется смертью. Немец через плечо бросил стремительный взгляд назад, после чего медленно поднял парабеллум. Ни один мускул не дрогнул на лице Григория.
«Почему он медлит, почему не стреляет?» – внезапно подумал Григорий и с презрением посмотрел на немецкого офицера.
Тот действительно несколько минут не отрываясь смотрел на русского танкиста, а затем нажал на спусковой крючок. Три глухих выстрела один за другим прозвучали в ранней тиши. Обер-лейтенант прекрасно стрелял: пули пролетели над головой Григория и вошли в ствол березы, стоявшей за его спиной. Криво усмехнувшись, обер-лейтенант спрятал в кобуру парабеллум и быстро, не оглядываясь, зашагал прочь. Странный случай, необъяснимый…
Командный пункт 2-й танковой армии разместился в подвале одного из домов на окраине населенного пункта, занятого ранним утром 10 марта советскими войсками. Несмотря на то что дом был полностью разрушен русской артиллерией, подвальные помещения благодаря толстым бетонным стенам и перекрытиям сохранились в первозданном виде. В этом доме раньше находился немецкий штаб. Русские вели бой на втором этаже дома, а в это время в подвале продолжали нести боевое дежурство немецкий офицер и телефонистки. И когда русские ворвались в подвал, те не успели даже повредить связь, и немцы еще долго продолжали звонить из других кварталов.
Григорий, пригнувшись, спустился в подвал и вошел в маленькую комнату, посредине которой стоял круглый стол красного дерева, заваленный всевозможными картами и планами. В правом углу комнаты в каменной нише на полке рядом с телефонами лежали связка гранат и несколько автоматов. Командующий заметно нервничал. Он сидел за столом и постукивал карандашом по карте.
– Товарищи офицеры, прошу ближе подойти к карте, – чуть охрипшим голосом произнес командующий и обвел всех присутствующих пристальным взглядом. – Как видите, до города-крепости Кюстрина всего десять километров, – сказал генерал и сделал на карте отметку карандашом.
Он только что выслушал донесение по телефону о новых продвижениях русских вой ск.
– Думаю, не стоит объяснять вам, что со взятием Кюстрина весь восточный берег Одера будет в руках Красной Армии. Германское командование, если верить донесениям нашей разведки, – генерал бросил быстрый взгляд на полковника Данилова, – подтянуло к Одеру свои ресурсы: одну танковую и одну моторизованную дивизии, две стрелковые бригады, батальоны фольксштурма, охранные и полицейские подразделения, ранее участвовавшие в боях на Западном фронте. Так что схватка предстоит жаркая. А теперь несколько слов об оборонительных сооружениях вокруг города-крепости и близлежащих населенных пунктов. Николай Васильевич, продемонстрируй.
Офицеры расступились, и к столу подошел командир артиллерийского полка подполковник Зайцев. Он негромко откашлялся и положил на стол аккуратно расчерченную схему немецких укреплений.
– Прежде всего, следует отметить, что Кюстрин отделяет от столицы гитлеровской Германии всего семьдесят километров. Город входит в систему Одерского четырехугольника, омываемого реками, – Зайцев провел рукой по карте, – Одер, Варта и Нетце. Широкая заболоченная равнина с большим количеством озер, мелких речек, тянущихся от Кюстрина на восток, является серьезным естественным препятствием. Сам же город представляет собой неприступную крепость, способную сдерживать натиск неприятеля в течение длительного времени. Улицы города нашпигованы всевозможными ловушками, подвалы в домах – настоящие доты, соединенные между собой подземными ходами. Есть сведения, что многие дома заминированы.
– Извините, товарищ генерал, можно мне сказать несколько слов? – вступил в разговор полковник Данилов.
– Разведка! – командующий внимательно посмотрел на полковника. – Чем порадуешь нас, Владимир Иванович?
– Вчера мои орлы захватили в плен долговязого, трясущегося от страха немецкого офицера, – лицо Данилова расплылось в улыбке. – Так вот, он сказал, что комендант крепости полковник Крюгер приказал поставить под ружье несколько сотен раненых, досрочно выписанных из госпиталя, а из больных венерическими болезнями сформировать батальон. Местное же население крепости в возрасте от тринадцати до шестидесяти лет фашисты согнали на улицы города и заставили сооружать оборонительные линии. «Лопата и автомат спасут нас от поражения» – лозунг фашистской пропаганды, которая старается поддержать дух защитников крепости. Однако все солдаты боятся очередного наступления. Офицеры приказали им держаться до последнего патрона, а это значит – смерть каждому из них обеспечена.
– Боятся, говоришь?! Это хорошо. Вот если бы они еще больше боялись и сдали крепость без боя… А так… Сколько погибнет людей, один Бог знает, – командующий тяжело вздохнул. – Продолжай, Николай Васильевич.
– Есть, товарищ генерал, – произнес подполковник Зайцев. – Товарищи офицеры, прошу внимательно посмотреть на карту. Между водными преградами на подступах к городу и крепости тянутся четыре ряда сплошных траншей, широкие минные поля, густая сеть проволочных заграждений. Обратите внимание – «новинкой» является то, что колючая проволока преграждает путь не только к первой линии траншей, но и к последующим. И еще одна «новинка», называемая «ежом». Суть нововведения заключается в следующем: раньше гитлеровцы особенно упорно оказывали сопротивление на первой линии траншей, здесь же плотно сосредоточились вой ска ближе к центру. В первом ряду немецких траншей пехота располагается не сплошной линией, а отдельными группами, отдельными узлами сопротивления. Это и есть, по мнению немецкого командования, иглы ежа, которые должны проколоть наступающие части, обескровить их, как бы самортизировать их удар. Собственно, «еж», то есть тело его, располагается сзади во втором ряду, где самая плотная линия обороняющихся должна отразить ослабевший нажим. Этой тактике обороны нами будет противопоставлена хорошо продуманная система огня. Кроме того, товарищ генерал, я думаю, нас поддержат танки и пехота.
– Правильно думаешь, Зайцев, – согласился генерал.
– Наша артиллерия накроет вражескую оборону сразу на всю ее глубину. Несколько минут шквального артиллерийского огня – и пушки умолкают. Противник, ожидая атаки, вылезает из укрытия, но после короткого перерыва дождь снарядов вновь обрушивается на траншеи. Так повторяется несколько раз в течение часа. Не доверяя перерыву в канонаде, немцы остаются в укрытиях. Тут-то наши пехотинцы и выдворят их из лисьих нор.
– Здорово!!! – не удержавшись, воскликнул Григорий Орлов и с восторгом посмотрел на Зайцева.
– Да, действительно здорово, – командующий впервые за время совещания не смог сдержать улыбки.
– У меня все, товарищ генерал, – закончил доклад Зайцев.
– Хорошо. Продолжим, товарищи. Валентин Алексеевич, – командующий сделал знак полковнику Малышеву, – прошу.
Малышев подошел к столу.
– К городу Кюстрину с севера, востока и юга подходят пять железнодорожных и пять шоссейных дорог. Предлагаю…
Совещание у командующего 2-й танковой армии закончилось глубоко за полночь. Когда Григорий вернулся в дивизию, его экипаж уже мирно спал, устроившись на ночлег в палатке рядом с танком, замаскированным еловыми и сосновыми ветками. Спать не хотелось и Григорий сел на пригорок рядом с палаткой на брезентовый плащ, который расстелил на земле. Над ним возвышался темный купол ночного неба. От реки тянуло прохладой и слышался гул движущихся бесконечных колонн боевой техники, которая, не зажигая фар, буквально на ощупь тянулась сплошной лентой по широкому мосту через Одер на плацдарм, где незаметно для врага сосредотачивались крупные соединения русских вой ск, которые должны были принять участие в наступательной операции. Наступление было назначено на 7:30 утра 11 марта 1945 года. Невеселые мысли одолевали Григория. Несколько дней назад он получил письмо от матери. Оно было написано еще в декабре 1944 года, но долгие месяцы путешествовало по дорогам войны в поисках своего адресата. Письмо потрясло Григория до глубины души.
«Пожар полыхал три дня, – писала мать. – Отступая, немцы сожгли почти всю деревню, наш дом уцелел чудом. Смрад и запах гари стояли в воздухе, а черный пепел от сгоревших домов и построек покрыл землю. Но на этом фашисты не успокоились: они согнали всех молодых девушек на центральную площадь перед школой, погрузили их, точно скот, в машины и увезли в Германию. Мужайся, сынок, среди девушек была и Ольга Светлова».
Ольга Светлова, маленькая хрупкая девушка с большими зелеными глазами, девушка, которую Григорий любил всей душой. И если бы Григория спросили, что для него означает слово Родина, он, не задумываясь, ответил бы: «Родина – это мои родные и близкие, деревня, где я родился и вырос. Родина – это зеленоглазая девушка Ольга». Ее светлый образ он как святыню хранил в своем сердце. Какие только ласковые слова не придумывал Григорий, грезя о любимой, но чаще всего он сравнивал ее с распускающимся бутоном белой розы. Ей было всего пятнадцать лет, когда Григорий уходил на фронт. Последний миг их расставания он запомнил на всю жизнь и без слез не мог вспоминать. Они стояли, взявшись за руки, на берегу реки под сенью развесистого могучего дуба. Шалун-ветер трепал пышное, затянутое в талии широким поясом ситцевое платье Ольги. Наклонившись, Григорий нежно поцеловал ее на прощание в губы. Это был первый и последний поцелуй в их жизни, робкий и по-детски неумелый.
– Ты будешь ждать меня, любимая? – Григорий заглянул в бездонную пропасть зеленых глаз девушки.
Ольга покраснела, но взгляд не отвела.
– Да, – ответила она сначала еле слышным, а затем с нарастающим крещендо несколько раз повторила: – Да, да, да!
Григорий обнял девушку. Им овладел безумный восторг. Сердце билось глухо и сильно, а голова кружилась в бешенном ритме, вознося его душу в рай. Ему хотелось без конца целовать ее губы, смотреть в ее глаза, не отрываясь долго-долго, потонуть в ее взгляде и слиться с ней в бесконечном объятии.
«Ольга, любовь моя! Где ты? Жива ли ты?» – Григорий никогда не думал, что сердце может так сильно и невыносимо болеть.
Получив письмо от матери, он совсем потерял покой, в сердце наряду с любовью и нежностью поселилась тревога за судьбу любимой девушки. А что, если Ольга сейчас находится в немецком концлагере, где каждую минуту, каждый час фашистские изверги уничтожают ни в чем ни повинных людей? И она, маленькая и беззащитная, лежит где-нибудь на каменном полу и, истекая кровью, умирает. Нет! От этих мыслей можно просто сойти с ума. Будь проклята эта война! Будь проклята! Через несколько часов бой, и Григорий будет драться так, что ни один фашист не уйдет с поля боя живым.
III
Генрих, прикрыв рукой глаза, сидел в мягком кожаном кресле. Перед ним на журнальном столике стояла недопитая бутылка водки и лежала пачка сигарет. Генрих изрядно выпил. Это разогрело его кровь, и мрачные мысли, словно яд змеи, быстро заполняли клетки головного мозга. Часы в гостиной пробили полночь. Генрих резко выпрямился и медленно раздавил в пепельнице недокуренную сигарету. Через минуту его рука потянулась за новой сигаретой, но так и застыла. Дверь спальни бесшумно отворилась, и в комнату вошла Ольга в сопровождении горничной. Генрих скривил лицо.
– Ступай прочь, Барбара, – приказал он.
Как только за горничной закрылась дверь, Генрих встал и подошел к Ольге. Шатаясь из стороны в сторону, он долго рассматривал девушку, затем вернулся к журнальному столику и, наполнив рюмку до краев водкой, со словами «пей, русская тварь!» протянул Ольге.
Девушка даже не шелохнулась. Она с ненавистью смотрела на немца и не могла понять: кто перед ней? Человек или животное? Мундир расстегнут, волосы взъерошены, лицо красное и лоснящееся от пота, а глаза налиты кровью так, что белков не видно совсем. Мерзкая, отвратительная физиономия.
– Ах ты не хочешь? – голос немца прозвучал угрожающе. – Так я заставлю тебя! – Генрих напрягся, глаза его сузились, и он, схватив девушку за подбородок, разжал ей рот и вылил водку.
Ольга поперхнулась, у нее начался кашель, а на глаза навернулись слезы. Генрих же, широко расставив ноги, запрокинул голову и громко рассмеялся. Но вдруг он резко оборвал смех, и на его лице появилась злобная гримаса.
– Как тебя зовут? – спросил он. – Впрочем, какая разница. Ты есть русская свинья и больше никто.
Генрих размахнулся и ударил девушку по лицу. Удар был такой силы, что Ольга не устояла на ногах и упала.
– Встать! – закричал Генрих.
Шатаясь, Ольга поднялась. Дрожь страха пробежала по ее телу, а лицо от удара начало медленно краснеть.
– Зверь, фашист, – громко выкрикнула она в лицо немцу и провела рукой по губам.
Алая кровь обагрила ее руку. Генрих, покачиваясь из стороны в сторону, вплотную подошел к Ольге.
– Ты думаешь, я напился до такого состояния, чтобы бить тебя, женщину? Нет, я бью не тебя, а вас, русских в твоем лице. Вы все у меня отняли: родину, дом, друзей. Я ненавижу вас, будьте вы прокляты! – ослепленный дикой яростью, закричал он.
Глядя на разъяренное лицо немца, Ольга думала, будто она вновь во власти дикого кошмара. Она прекрасно знала, что за вспышкой гнева незамедлительно последует физическая расправа. Через все это она уже прошла в концлагере «Равенсбрюк». И тогда Ольга собрала всю свою силу и толкнула немца в грудь, а сама метнулась к двери. Но Генрих качнулся в сторону и с перекошенным от бешенства лицом в прыжке успел ухватить девушку за ноги. Она упала. Генрих не отрываясь смотрел на девушку, смотрел и не видел ее. Перед глазами была точно черная пелена. И тогда он ударил ее сапогом по ногам. Ольга закричала. Но ее крик лишь еще больше подзадорил Генриха, и он, поставив ногу ей на живот, с силой надавил. Ольга попыталась вырваться, но Генрих наклонился и, схватив ее за волосы, приподнял и несколько раз ударил головой об пол. Она уже не кричала, лишь нечеловеческий стон вырывался из ее груди. А Генрих хотел, чтобы она молила о пощаде, ползала и извивалась у него в ногах. Но гордость этой русской девушки была слишком сильна. Она предпочла умереть, но не быть поставленной на колени.
– Эти русские… их не сломить и не убить! – Генрихом овладела невероятная ярость и злость, и он, точно помешанный, стал избивать ее ногами.
Удары сыпались с огромной силой по спине, ногам и животу. Ольга, как могла, пыталась от них увернуться, но в голове вдруг что-то взорвалось, и она затихла. Боль постепенно стала пропадать. Перед глазами появились разноцветные круги, темная волна закружила и швырнула в бездну, а затем вновь вернула к свету. Гаснущее и вновь возвращающееся сознание фиксировало все происходящее вокруг, но странно… она не слышала ни единого звука.
– Черт, не хватало мне еще убить эту русскую тварь, – прорычал Генрих.
Ольга лежала неподвижно. Изо рта у нее текла тонкая струйка крови, а в глазах, когда-то таких красивых изумрудных глазах, стояли слезы. Генрих застыл, медленно приходя в себя.
– Шульц, накрой ее покрывалом и отнеси по черной лестнице в комнату для прислуги. Пусть Барбара посмотрит за ней. Да не попадись отцу на глаза, – приказал Генрих денщику, которого вызвал звонком после того, как удостоверился, что девушка жива.
Шульц Хофман, пятидесятилетний мужчина с хмурым худощавым лицом бережно накрыл Ольгу покрывалом, взял на руки и вышел из комнаты. Проводив пристальным взглядом денщика, который медленно спускался по лестнице с девушкой на руках, Генрих вернулся в комнату и сел на край кровати. Он вдруг внезапно почувствовал себя не в своей тарелке.
– Господи, что же такое творится со мной? – он застонал, обхватив голову руками.
Генрих никогда не был с женщинами ласков, но такое… Он не мог понять, почему ярость, обида и злость, кипевшие в нем уже несколько дней, взяли над ним верх, и он точно дикое животное обрушился на беззащитную девушку. Вдруг в дверь тихо постучали.
– Войдите, – безразличным голосом сказал Генрих.
В комнату вошел старый барон.
– Генрих, я слышал шум в твоей комнате. Что случилось?
– Ничего, отец. Иди спать.
Барон быстрым взглядом окинул комнату и увидел на журнальном столике пустую бутылку из-под водки.
– Генрих, ты пьян. Я хочу, чтобы ты завтра же вернулся в дивизию. Мне не нравится твое настроение. Ты совсем раскис и, похоже, забыл, что ты офицер, а не кисейная барышня.
– Как раз это, отец, я и не забыл. Но в дивизию я не вернусь. Хватит, навоевался.
– Замолчи, – закричал старый барон. – Я не хочу тебя больше слушать. Посмотри на себя… На кого ты похож? Приведи себя в порядок и перестань пить.
– Отец, все рушится… все летит к черту… Я так верил фюреру и готов был идти за ним на край света. Но эти русские… Кто думал, что они будут так сильны? – Генрих подался вперед и с такой силой сжал кулаки, что побелели пальцы.
Старый барон подошел к сыну и, глядя ему прямо в глаза, тихо произнес:
– Я не узнаю тебя, Генрих. И знаешь, что меня больше всего возмущает в тебе?
Генрих криво усмехнулся и покачал головой. И то, что дальше сказал отец, не удивило его, а скорее обрадовало. Ему нужны были именно эти слова, которые больно хлестали по щекам, задевая гордость и самолюбие.
– Да, Генрих, возмущает не то, что ты потерял веру в фюрера и великую Германию, а то, что потерял веру в себя. Я не открою тебе истину, если скажу, что жизнь – не прямая и ровная дорога, по которой человек может идти до самой смерти, любуясь красотами окружающей природы. Жизнь – это в первую очередь борьба, и в этой борьбе побеждает сильнейший. В жизни бывают моменты, когда тебе никто не поможет, и только ты сам можешь найти выход из создавшейся ситуации. И от того, насколько ты будешь верить в себя и свои силы, будет зависеть твоя дальнейшая судьба.
– Слова… это только слова, – возразил Генрих и с вызовом посмотрел на отца.
– Нет, Генрих. Ты же знаешь меня, я не сторонник высокопарных слов, которые так любят произносить наши политические деятели, выступая перед народом. В 1918 году Германия тоже проиграла войну с Россией и вынуждена была подписать Версальский договор. Тогда многие офицеры и солдаты покинули армию. Они уже не верили в то, что Германия может возродиться. Я же ни минуты не сомневался и оказался прав. Уже в 1926 году наши научные учреждения начали разрабатывать новую военную технику, не имевшую аналогов во всем мире. А через несколько лет Германия стала вооружаться.
– Хорошо, отец, тогда ответь мне на один единственный вопрос. Почему мы проиграли войну? Почему? Чем больше я думаю над этим вопросом, тем больше склоняюсь к мысли, что если о любой политике судят по ее результатам, то военная политика Гитлера была в корне неправильной. К этой мысли я пришел не сейчас, когда русские уже на пути к Берлину, а тогда… в 1943 году под Сталинградом. Именно эта мысль, а не страх перед близившимся концом, не голод и не сильный мороз, были причиной того, что бесконечно долгие часы в «котле» превратились для меня в адскую муку. Я никогда тебе не рассказывал, как же мне удалось вырваться из окружения.