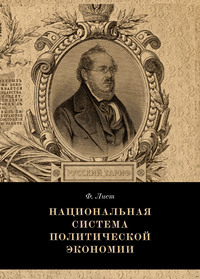
Национальная система политической экономии
Так одна очень уважаемая северо-германская газета, после довольно поверхностного обзора моей статьи в «Staatslexicon» под заглавием: «Каналы и железные дороги», назвала меня энтузиастом, для пылкой фантазии которого все представляется в увеличенном размере, и который видит массу таких вещей, которые совершенно незаметны для людей, одаренных обыкновенным зрением. Года четыре или пять тому назад в газетах Нюрнберга и Франкфурта были напечатаны статьи, помеченные из Лейпцига, содержания еще более оскорбительного[16]; невежество и бесстыдство дошло до такой степени, что меня не стеснялись объявить перед немецкой публикой в политической экономии шарлатаном и прожектером. Статья под словом «Железные дороги» в «Энциклопедическом словаре новейшего времени и литературы» («Conversations-Lexicon der neuesteu Zeit und Literatur») делает мне упрек в том, будто бы по моей главным образом вине произошла та злосчастная биржевая игра, которая, после удавшейся вполне лейпцигской подписки, так сильно дискредитировала это предприятие, между тем как, наоборот, именно своим решительным протестом против биржевой игры я навлек на себя неудовольствие биржевых маклеров. В упомянутой выше моей статье все это достаточно разъяснено и потому здесь я не считаю нужным защищаться от этой гнусной клеветы и унижения. Замечу только одно, что в борьбе против меня прибегли к самому непозволительному способу потому, что я встал поперек дороги некоторым лицам и личным интересам, что, как бы в придачу к этому, из боязни разоблачения с моей стороны направленной против меня интриги, сочли за лучшее обесславить меня, чтобы распространить в немецком обществе предубеждение к моей личности. Мои противники, в большинстве скорее введенные в заблуждение, чем сознательно лгавшие, не были знакомы ни с моим образом мыслей, ни с моим положением, ни с теми средствами, которыми я располагал. Не имея ни малейшего желания докучать немецкому обществу этой злосчастной борьбой совершенно частого характера, я в самом начале интриги принял твердое решение молча переносить всякую публичную и частную клевету, во-первых, чтобы не повредить тому доброму делу, которому я посвятил уже столько лет моей жизни, и для которого пожертвовал значительной суммой своего трудами нажитого состояния; во-вторых, чтобы обеспечить для себя то спокойствие духа, которое необходимо для преследования поставленной мной себе цели; наконец я твердо верил и верю в то, что в конце концов все-таки воздадут мне справедливость по крайней мере в этом отношении. При таких обстоятельствах мне нечего бояться обвинения в самохвальности, когда я в подтверждение моих слов, могу сослаться на экономические аргументы и положения, напечатанные в Лейпцигских отчетах, за исключением имеющих чисто местный характер, так как они принадлежат исключительно мне; когда я утверждаю, что только я – я один – с самого начала дал деятельности лейпцигского железнодорожного комитета то национальное направление, которое нашло такой сочувственный отклик во всей Германии и которое дало такие хорошие результаты, что я в течение восьми последних лет дни и ночи проводил за работой, стараясь предложениями, письмами и сочинениями двинуть вперед железнодорожный вопрос во всех частях Германии. Я с полной уверенностью утверждаю все это, так как уверен, что ни один добросовестный человек в Саксонии не будет в состоянии и не пожелает в этом отношении возразить мне открыто и за своей подписью.
В разоблаченной здесь интриге и лежит причина того, что немецкие экономисты до сих пор так мало отдавали справедливости моим работам по железнодорожному вопросу, что в своих сочинениях вместо того, чтобы указать, что нового и оригинального было в моих сочинениях, они или обходили меня полным молчанием или же цитировали в общих чертах[17].
Мои усилия создать железнодорожную сеть в Германии – цель, которая одна только могла принудить меня отказаться на много лет от блестящего положения в Северной Америке и возвратиться в Германию, – эти усилия и моя прежняя практическая деятельность в Северной Африке лишили меня возможности продолжать мои литературные занятия, и, может быть, эта книга никогда не появилась бы на свет, если бы, вследствие указанной выше интриги, я не лишился занятий и не видел бы себя вынужденным оградить свое имя.
Необходимость позаботиться о восстановлении своего здоровья, расстроенного усиленной работой и всевозможными неприятностями, побудила меня к поездке в исходе 1837 г. в Париж. Здесь я случайно узнал, что обсуждавшийся уже прежде вопрос о свободе торговли и об ограничениях в торговле снова поднят академией политических наук в Париже в виде темы на премию. Это обстоятельство побудило меня решиться на письменное изложение сущности моей системы. Но, не имея под руками моих прежних работ, я должен был писать обо всем на память, и так как кроме того я должен был окончить мою работу в слишком краткий срок – всего в две недели, то конечно труд мой должен был выйти очень несовершенным. Несмотря, однако, на это обстоятельство, комиссия академии поставила мою работу в числе первых трех из двадцати семи, которые ей были представлены[18].
Такой результат должен был меня удовлетворить, особенно ввиду краткости времени, употребленного на работу и того обстоятельства, что премия вообще не была присуждена, главным же образом потому, что члены комиссии все без исключения по своим убеждениям принадлежали к школе космополитической. И в самом деле с вопросом о теории политической экономии в ее отношении к международной торговле и торговой политике во Франции дело обстоит пожалуй хуже еще, нежели в Германии.
Г. Росси, человек, оказавший значительные услуги наукам политическим вообще и разработавший в частности некоторые отделы политической экономии, но получивший образование в маленьких городах Италии и Швейцарии, где нет возможности ознакомиться и оценить значение промышленности с национальной точки зрения и в соответственных этому размерах, где поневоле приходится сосредоточить все надежды на осуществление идеи всеобщей свободы торговли, как те, которые, не находя более утешения на этом свете, обращают все свои надежды к жизни будущей, – этот г. Росси нисколько еще не сомневается в истинности космополитического принципа, ему даже не приходит на мысль, что история в этом отношении может дать совсем другое освещение, нежели то, которое было дано Адамом Смитом. Бланки, известный в Германии своей «Историей политической экономии», ограничил с тех пор свои претензии лишь тем, что разбавил водой сочинение Ж. Б. Сэя, который, в свою очередь, сделал тоже самое с Адамом Смитом. Тот, кто взглянул уже свободным от партийных мнений, испытывающим взглядом на историю торговли и промышленности народов, найдет в их книгах целые потоки чистейшей воды. Конечно, не эти два писателя оказали влияние на благоприятную оценку моего сочинения, я приписываю ее влиянию барона Дюпена, который вообще предубежденный против всяких теорий, но человек глубокого образования и опытности, никогда не стремился к выработке системы; тем не менее ему именно обязана Франция фактическими и статистическими данными о своих национальных производительных силах, а потому он необходимо должен бы был прийти к теории производительных сил, если бы только был в состоянии победить свое отвращение к теории, которое он так откровенно высказывает в предисловии к своему только что указанному труду. Там же, имея ввиду г. Сэя, он язвительно замечает, что у него нет никакого праздного стремления к созиданию систем и к оценке отношений всех народов на основании одного. Однако для меня непонятно, каким образом возможно быть последовательным на практике, не имея рациональной системы. Конечно можно заметить, что английские государственные люди в течение столетий без всяких теорий были довольно хорошими практическими деятелями; однако на это можно возразить, что в Англии обычай продавать предметы мануфактурного производства и покупать сырье в течение целого ряда веков заменял всякую теорию. Хотя и это справедливо только отчасти, потому что указанный обычай, как известно, не предохранил Англию от крупной ошибки запрещать в различное время ввоз хлеба и других сельско-хозяйственных продуктов. Как бы там ни было, но от проницательного взора Дюпена, как я могу заключить и из некоторых сказанных им мне слов, не могло ускользнуть близкое родство его статистических данных с моей теорией – отсюда и его благоприятный приговор о моем сочинении. Кроме названных писателей в комиссии были еще и другие лица, которые также писали о политической экономии; но если пересмотреть их сочинения с тем, чтобы извлечь из них какую-либо оригинальную мысль, то в них не окажется ничего кроме political economy made easy[19], как говорят англичане, – вещи, достойные дам, занимающихся политикой парижских щеголей и других дилетантов, – все это парифразы прежних перифразов сочинений Адама Смита. Ни одной собственной мысли – просто жалость берет!
Эта работа на французском языке не была, однако, для меня бесполезна, как и прежние работы на английском языке. Она не только еще больше укрепила мое убеждение в том, что дельная система необходимо должна опираться на достоверные исторические факты, но я пришел к заключению, что мои исторические изыскания еще далеко недостаточны. Так, когда я, расширив историческое изучение, перечитал затем мои сочинения на английском языке и в частности пять уже отпечатанных листов исторического предисловия, они показались мне плохими. Быть может благосклонному читателю такими же покажутся и те, которые я выпускаю на немецком языке. Откровенно и без всякой аффектации признаюсь, – и в этом, может быть, некоторые мне охотно поверят, – что они мне показались снова такими же. Так, когда я, по окончании своего труда, снова перечитал первые главы, я был готов осудить их так же, как и прежние слова английские и французские сочинения. Однако я решил иначе. Кто работает, тот идет вперед, а обработка должна же когда-нибудь закончиться. Итак, я решаюсь явиться пред обществом, со скромным убеждением, что быть может многое в моей работе будет достойно порицания, так как теперь, оканчивая свое введение, я сам вижу, что многое можно было бы обработать основательнее и выразить яснее, но меня поддерживает лишь мысль, что быть может все-таки в моей книге найдется что-либо новое и верное, и хотя одно какое-либо положение окажется действительно полезным для моего немецкого отечества. Этим же стремлением быть полезным своей родине объясняется и то, что я часто может быть слишком смело и слишком решительно произносил строгий приговор над мнениями и сочинениями некоторых авторов и даже целых школ. На самом деле это зависит не от самонадеятельности, а из опасения, чтобы достойные порицания взгляды не сделались общим достоянием, и из убеждения, что противоположное им и искреннее мнение должно выражаться самым энергичным образом. Без сомнения, ошибаются те, которые думают, что люди, оказавшие значительные услуги науке, имеют право на уважение даже в том случае, когда они заблуждаются. Напротив, писатели, получившие известность и пользующиеся авторитетом, своими ошибками причиняют гораздо больше вреда, чем писатели незначительные, а потому и требуют более решительного опровержения. Что критика более мягка, более умеренная и скромная, с различными оговорками и комплиментами направо и налево, была бы гораздо выгоднее лично для меня, мне очень хорошо известно; я знаю также и то, что кто судит, сам подвергнется осуждению. Но что за беда? Сам я воспользуюсь строгими приговорами моих противников для исправления своих ошибок, если, на что я едва осмеливаюсь питать надежду, эта книга потребует второго издания. Таким образом я принесу двойную пользу, – если и не себе самому. Для судей справедливых и снисходительных, если они пожелают принять в расчет мое извинение, замечу, что на составление этой книги я употребил гораздо менее времени, нежели на изыскания и размышления; что отдельные главы были обработаны в разное время и часто поспешно, и что я далеко не считаю себя от природы одаренным выдающимися способностями. Эти замечания были необходимы для того, чтобы предупредить излишние ожидания от тяжких родов после столь продолжительной беременности, чтобы было ясно, почему я иногда то там, то здесь говорю о времени на половину или даже совершенно прошедшем, как о настоящем, и чтобы не слишком упрекали меня за частые повторения и иногда даже противоречия. Что касается повторений, то всякому, хотя сколько-нибудь знакомому с политической экономией, известно, как часто в этой науке различные предметы переплетаются между собой, и что несравненно лучше десять раз повторить одно и то же, нежели хотя один вопрос оставить в темноте. Какого мнения я сам о моих собственных силах, можно лучше, нежели из моих слов, видеть из того вышеуказанного обстоятельства, что мне пришлось употребить так много лет прежде, нежели я был в силах создать что-либо сносное. Великие умы создают быстро и легко – для обыкновенных необходима масса времени и тяжелого труда. Однако и они могут при благоприятных условиях создать что-либо замечательное, раз они встречаются с теорией, изжившей свои силы, и если только они одарены несколько здравым смыслом и настойчивостью и разрешении своих сомнений. И бедняк может сделаться богачом, если он станет откладывать копейку за копейкой, рубль за рублем.
Чтобы предупредить упрек в плагиате, я должен заметить, что развитые в этой книге положения давно уже были мной выражены в немецких и французских журналах, равно в газетах, а именно в «Allgemeine Zeitung», частью, однако, в виде беглых очерков и корреспонденций. Не могу здесь не воспользоваться случаем выразить публично мою признательность моему остроумному и ученому другу д-ру Кольбу за то, что он не побоялся дать место в своем уважаемом журнале моим, казавшимся сначала столь смелыми, заявлениям и доказательствам. Такую же признательность считаю своим долгом выразить барону Котте, который с такой похвальной энергией следует по стопам своего знаменитого отца, оказавшего столь важные услуги немецкой промышленности и литературе. Я чувствую себя обязанным публично заявить здесь, что собственник известнейшей в мире книгопродавческой фирмы оказал мне в железнодорожном деле Германии более услуг, чем какой-либо из немецких издателей, и что по его именно побуждению я решился опубликовать как очерк моей системы в «Vierteljahrsschrift», так и настоящий свой труд.
Для предотвращения упрека в недостатке полноты, позволю заметить, что по намеченному плану в этом первом томе я намерен был лишь соединить все, что мог сказать нового и оригинального о международной торговле и о торговой политике, и в особенности, что может послужить к созданию национальной германской торговой системы. Я полагал, что такой способ для разрешения вопроса о немецкой промышленности в настоящий решительный момент будет гораздо действительнее, чем если бы я перемешал в своей книге старое с новым, несомненные истины с сомнительными положениями и стал бы снова повторять сто раз сказанное. Поэтому же я считал необходимым умолчать о том, что мне, на основании моих наблюдений и опыта, а также во время путешествий и исследований удалось, как я думаю, открыть в других областях политической экономии. Так, я был занят между прочим исследованиями о поземельном устройстве и об определении прав поземельной собственности, о средствах к поднятию рабочих сил и к оживлению в Германии духа предприимчивости, о недостатках, сопровождающих фабричную промышленность и о средствах к их устранению и предупреждению, об эмиграции и колонизации, о создании немецкого мореходства и о средствах к расширению внешней торговли, о влиянии рабовладения и средствах к его уничтожению, о положении и действительных интересах немецкого дворянства и т. д. Результаты этих исследований, хотя и не увеличили бы чрезмерно объем этой книги, здесь все-таки не должны иметь места.
Помещая упомянутый выше очерк в «Vierteljahrsschrift»[20] я хотел, так сказать, спросить общественное мнение в Германии о том, позволено ли будет и не покажется ли странным изложение взглядов и начал, противоречащих по самой своей сущности положением господствующей политикоэкономической школы. Я хотел также дать приверженцам этой школы случай указать мне мои ошибки и тем направить меня на истинный путь. Однако очерк этот два года уже остается на глазах читающей публики, и до сих пор не раздалось еще ни одного голоса ни за, ни против. Мое самолюбие подсказывает мне, что мои положения неопровержимы; с другой стороны мой скептицизм нашептывает мне, что, вероятно, работа моя слишком ничтожна для того, чтобы вызвать возражение. Чему же верить? – Я не знаю; знаю только, что в вопросе о благосостоянии или бедствии, о жизни или смерти нации, и тем более нашей – немецкой — даже мнение самого незаметного деятеля заслуживает рассмотрения или по крайней мере опроверждения.
«Но, – скажут представители школы, как было ими не раз уже говорено, – так называемая меркантильная система была уже нами блестяще опровергнута в сотнях и сотнях сочинений, статей и речей, обязаны ли мы в тысячный раз опровергать вновь трактующее о ней сочинение?» Это было бы, конечно, доводом неотразимым, если бы я старался восстановить только так называемую меркантильную систему. Достаточно будет прочесть только это введение, чтобы убедиться, что я из этой, заслужившей столь дурную славу, системы взял только хорошее и отбросил все ее ошибки; а именно на истории и на самой сущности вещей, что я также поступал с земледельческой системой и с так называемой промышленной системой, ошибочно называемой именем, которое может относиться только к так называемой меркантильной системе; что я сделал еще больше, я первый раз сопоставил тысячи раз повторявшийся космополитической школой доказательства с природой вещей и с уроками истории, и в первый раз выяснил значение беспочвенного космополитизма, игру двусмысленной терминологией и ложность системы доказательств. Все это, без сомнения, должно бы было обратить внимание школы и заслуживало основательного возражения. По меньшей мере тот, кем непосредственно вызваны все эти замечания, не должен бы был оставлять лежать перчатку, которую я ему бросил.
Чтобы были понятны все эти замечания, мне необходимо припомнить предшествующие обстоятельства. В своем отчете о Парижской промышленной выставке 1839 г., напечатанном во «Всеобщей газете», я позволил себе сделать беглый очерк современного состояния теории, а именно французской школы. По этому случаю в корреспонденции «С Рейна» в той же газете мне был дан урок в таком тоне и с такими аргументами, которые мне ясно показали, что я имел дело с одним из первых ученых авторитетов Германии[21]. Мне был сделан упрек в том, что я, говоря о господствующей теории, назвал лишь Адама Смита и Сэй, и давалось понять, что в Германии также есть теоретики, заслужившие всемирную известность. Каждое слово этой корреспонденции дышит той самоуверенностью, какую вселяет теория, получившая непререкаемый авторитет, своим юным последователям, в особенности по отношению к скептикам, в которых они совершенно не признают знакомства с выученной ими наизусть теорией. Повторив известные доводы школы против так называемой меркантильной системы и высказав недовольство по поводу того, что приходится еще раз повторять сто раз выраженную и признанную целым светом истину, он восклицает: «Сам Жан-Поль где-то сказал, что ошибочная теория может быть заменена только лучшей».
Мне неизвестно, где и по какому поводу Жан-Поль высказал подобную мысль, однако, думается, я могу заметить, что эта мысль – в том виде, в каком она приводится корреспондентом «С Рейна», – очень похожа на общее место. Дурное, конечно, везде с успехом может быть заменяемо только чем-либо лучшим. Отсюда, однако, еще никак не следует, что дурное, считавшееся до сих пор хорошим и дельным, не следует выставлять в его истинном свете. Еще менее следует отсюда, что нет необходимости преждевременно отвергнуть признанную ложную теорию, чтобы очистить место для лучшей или указать на необходимость в создании лучшей теории. Я, со своей стороны, не ограничился тем, что показал ошибочность и неосновательность господствующей теории, я в указанной выше статье в «Vierteljahrsschrift» предложил публике, в виде опыта, очерк новой теории, которую считаю лучшей; я следовательно выполнил именно то, что требуется приведенным из Жан-Поля выражением, понимаемым в тесном смысле. Однако этот выдающийся авторитет космополитической школы целых два года хранит упорное молчание.
Впрочем, строго говоря, это не совсем верно, будто ни один голос не отозвался на обе предшествовавшие моей книге статьи. Если я не ошибаюсь, автор статьи в одном из последних выпусков пользующегося высоким уважением журнала намекает на меня, говоря, что извне («не со стороны людей науки») делаются на господствующую экономическую систему нападки людьми, «обнаруживающими полное незнакомство с оспариваемой ими системой, которую они понимают как в ее целом, так и в частностях совершенно неверно» и т. д.
Эта высокодоктринерская полемика выражена фразами настолько схоластическими и в таких темных изречениях, что едва ли кому-нибудь, кроме меня, может прийти мысль, что она направлена против меня и моих сочинений. Поэтому и вследствие того, что я в самом не вполне уверен в том, что здесь дело идет обо мне, я, желая остаться верным своему намерению не называть имен, возражая на своего противника или его сочинение. Однако я не считаю себя в праве пройти его и молчанием, чтобы и самому автору, если он разумел меня, не дать повода думать, что им сказано нечто неопровержимое. В этом случае и без более точного указания ему должно быть совершенно ясно, что я о нем думаю. Откровенно заявляю этому противнику, что я посвящен в глубокие тайны науки, думаю, не менее его; что изречения и, кажущиеся глубокомысленными, но на самом деле ничего не говорящие, фразы, нагроможденные друг на друга в начале его статьи, имеют в политической экономии столько же значения, сколько фальшивая монета в денежном обращении; что общие места и претензия на исключительное знание указывают только на сознание собственного бессилия, что теперь совсем не время приписывать Адаму Смиту мудрость Сократа и объявлять светилом Лоца, который в Германии только разбавлял водой сочинения первого; что если бы он, мой противник, в состоянии был освободиться от влияния этих большей частью неприменимым к жизни авторитетов, он необходимо пришел бы к печальному выводу, что его собственные сочинения требуют значительного пересмотра; что такая геройская решимость принесла бы ему гораздо больше чести и славы, если бы он позаботился разъяснить вновь выступающим практическим деятелям в области политической экономии истинные интересы их родины, вместо того, чтобы их забивать различными доктринерскими соображениями.
Подобное обращение принесло бы немаловажную пользу нации: известно, какое сильное влияние профессора политической экономии, если они занимают кафедры в известных и отличающихся многочисленностью слушателей университетах, оказывают на общественное мнение не только современного, но и последующего поколений. Я не могу удержаться, чтобы не помочь, насколько это возможно в пределах настоящего введения, тому, о ком здесь идет речь, освободиться от его теоретических мечтаний. Он беспрестанно говорит о мире богатств. В этом слове целый мир заблуждений – мира богатства не существует! Только представление о духовном или живом может быть соединено с понятием о мире, будет ли это жизнь твари или дух твари. Разве возможно говорить, например, о мире минералов? Устраните духовное начало, и все, что называется богатством, превратится лишь в мертвую материю. – Что сталось с сокровищами Тира и Карфагена, с богатством Венецианских дворцов, когда дух отлетел от этих каменных масс? – С вашим миром богатств вы хотите возвысить материю на степень самостоятельного начала – и в этом вся ваша ошибка. Вы рассекаете мертвое тело и показываете нам строение и состав его членов, но связать эти члены снова с телом, вдохнуть в них жизнь, сообщить им движение, вы не в силах. Ваш мир богатств – химера!..
Этих замечаний, я думаю, достаточно для убеждения в том, что не страх заставляет меня избегать в этой книге рассуждений об ученых работах немецких экономистов. Я желаю избегнуть лишь бесполезной и вредной полемики; ибо только со времени основания таможенного союза для немцев явилась возможность рассматривать политическую экономию с национальной точки зрения; и после того как некоторые из прежних ярых защитников космополитической системы изменили свой взгляд было бы явным упорством, при таком положении дела, посредством личного порицания препятствовать беседе с такими людьми.
Конечно, эти соображения могут иметь значение лишь для живых еще писателей, но, откровенно говоря, не будет ничего странного, если их направить и против умерших, так как они повторили ошибки Смита и Сэя и на самом деле ничего нового и существенного не внесли от себя. Считаю необходимым заметить, что здесь, как и в остальной части этой книги, наша задача ограничивается изложением учения о международной торговле и о торговой политике – везде следовательно мы признаем те заслуги, которые могли бы быть оказаны как умершими, так и современными писателями в других областях политической экономии. Читайте для этого сочинения Лода, Пелица, Роттека, Содена и т. д. – не говорю о второстепенных, каковы Краузе, Фульда и т. д., – и вы увидите, что они в данном вопросе являются слепыми последователями Смита и Сэя, и что там, где они отступают от своих учителей, их рассуждения не имеют никакой цены. То же нужно сказать даже о Вейтцеле, одном из лучших политических писателей Германии; и даже у опытнейшего и проницательного Рудгарта по этому важному вопросу можно найти лишь некоторые то там то здесь разбросанные блестящие замечания.