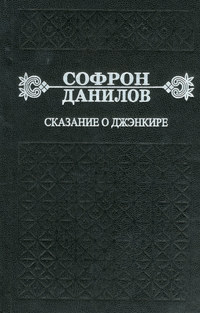
Сказание о Джэнкире
Некоторое время оба молчали. Зорин – жуя; Кэремясов – растерявшись, не зная, как объяснить невероятное преображение сотрапезника. От этого злился.
– Да вы почему не едите? – держа вилку торчмя, изумился хозяин. – Если не пить, не есть, то зачем в гости ходить?
– Чтобы послушать вас, уважаемый золотодобытчик! Чем могут порадовать прииски?
– Работают вовсю, – хрустел соленым огурцом. – Запасные части к бульдозерам завезли, это прямо как гора с плеч, – дернулся кадык; вздохнул с облегчением.
– «Работают вовсю», – зло передразнил. – Плана не могут дать, и это называется «вовсю»?
Зорин, будто и не заметив сарказма:
– План аргасцы не только выполняют, но и значительно перевыполняют. А кроме того, – не в отместку, не в поучение: трудиться можно даже при невыполненном плане. Судя лишь по цифрам сводки, вы у себя там можете рассуждать всяко, но у меня, извините, язык не поворачивается сказать, что на Чагде люди трудятся неудовлетворительно. Не их вина, что подвернулся участок с бедным содержанием металла. В этом скорее вина наша и вина геологов.
– Ладно уж. Лучше расскажите по порядку, что решили, какие меры наметили?
Подробнейше Михаил Яковлевич рассказал о проведенных на приисках собраниях коммунистов и рабочих, о широчайше развернутом на карьерах социалистическом соревновании за максимальное сокращение простоев из-за поломки специальной техники, об единодушном стремлении за счет этого добиться круглосуточной безостановочной работы всех промывочных приборов, о героическом настроении и намерениях руководства приисков – в общем, обо всем… Кончив отчет, выпил залпом уже успевший приостыть чай и молча принялся катать пустой стакан меж ладоней.
– Ну и?..
– Вот и все…
– Как все?!
– Горняки «Аргаса» обязуются сезонный план перевыполнить на три процента. На «Чагде» – дать добычу на два-три процента выше прошлого месяца. Думаю, что они смогут сдержать данное слово. Если, конечно, не снизят взятого темпа.
– Ну а вы?
Зорин поднял на собеседника непонимающие, безнадежно усталые глаза.
– Ну а вы, довольны этим? – вынужден был расшифровать свой вопрос Кэремясов.
Кажется, дошло.
– Да, я доволен! – со стуком, словно припечатал, поставил стакан на стол. Вскочил было, с явным намерением пройтись по кухне, но тут же сел, обнаружив себя в одних подштанниках.
Кэремясов молниеносно воспользовался преимуществом:
– Нам великодушно обещают два-три «грома-а-адных» процента, а мы… падаем в ножки за такое благодеяние! – Кэремясов взял в руки пригубленный коньяк. – Выпьем, Михаил Яковлевич, в «великой радости», что чагдинцы дадут все-таки восемьдесят процентов плана! Давайте стукнемся!
– Я уже кончил. Никогда не повторяю.
– А я никогда не пью один! – Кэремясов поставил стакан обратно. – И вообще-то, стоит ли пить за эти восемьдесят?
– Мэндэ Семенович… – Зорин обескураженно раскинул руки и откинулся на спинку стула. – Вы же ведь нисколько не хуже меня знаете: оба прииска работают на пределе возможного!
– Знаю.
– Как же можно требовать от людей?..
Кэремясов вырвал из пачки «беломорину», закурил, закашлялся, сломал папиросу в пепельнице. Возмутило: этот Зорин как будто жалел его! Его, Кэремясова?
И не ошибся: так и было. Глядя на молодого, кипятящегося секретаря, «зубр» думал: «И чему вас, голуби мои, учат в ВПШ-то? Потер бы я тебе, сынок, в баньке спинку… А ты мне – само собой, так, что ли, подразумевается? Так. Так…»
– Значит, с планом мы нынче явно не справимся?
Зорин только промычал в ответ.
– Так и записываем заранее!
– Зачем «заранее»? Ситуация, знаете, переменчива. На карьерах Чагды могут обнаружиться богатые участки. В таком случат; мы разом взлетим на самый гребень.
– А если нет?.. Получается, вы предлагаете ждать у моря погоды. Между прочим, Михаил Яковлевич, мы – коммунисты! Мы!..
– Почему «между прочим»? Я считаю себя коммунистом без всяких этих «между прочим».
– Тем лучше. Если мы коммунисты, то не должны спокойно ждать, когда природа соблаговолит преподнести нам подарок. Нас на наши посты назначила партия. Чтобы мы организовали борьбу за план, чтобы мы его обеспечили. Если не окажемся на высоте положения и не сумеем, то нас… – Кэремясов сделал рукой резкий отстраняющий жест и присвистнул.
– Знаю. Много раз слышал то же самое, когда говорили куда более грозно, – Зорин тяжко вздохнул. – Снятием меня пугают вот уже тридцать лет подряд.
– И перестали бояться?
– К сожалению, не перестал.
В кухне посветлело.
– Ночь-то уже проходит. Сколько там набежало?
– Скоро четыре.
– Пора и домой.
Оба вышли наружу.
– Михаил Яковлевич, разговор о том, что «план все равно не выполним» и прочее, пусть останется между нами. С унынием, апатией надо вести решительную борьбу. Мы не имеем права расслабиться.
– Само собой.
– Извините, уснуть я вам не дал.
– Ну что вы, и сейчас имеется три-четыре часа. – Зорин обвел взглядом горизонт. – Кажется, намечается ясный денек… Признаться, в последнее время лишился спокойного сна. Не гипертония ли подкрадывается? Мучаюсь бессонницей и черной завистью завидую Владиславу Кузьмичу?
– Какому это Кузьмичу?
– Да Ермолинскому, бывшему директору. Человек сам себе обеспечил безмятежный сон.
– Тогда времена были другие. Попробовал бы сейчас проделать такие фокусы – несдобровать бы.
– Весьма сомневаюсь. В чем, по сути, его обвинили бы, – что имел тайный запасник? Поставишь на чашу весов требуемое количество золота – ты хорош, не поставишь – плох. Победителей, известно, не судят. Коль есть план…
Кэремясов, не дав договорить:
– Утром жду в райкоме, – холодно обронил и вышел на пустынную улицу.
Зорин тоскливо смотрел вслед.
Сунув гудящую голову под подушку, Мэндэ Семенович приказал себе заснуть. Приказать-то приказал, да где там… Ощутил непонятную зависть. К кому? Не к этому ли?.. как его – Ермолинскому! В чем, собственно, его преступление? Он же все промытое золото до последнего грамма передавал в государственный сейф. Это что, заслуга или вина? Правда, золотую кладовую он держал втайне, скрывал от государства. И за это…
Не-ет, эдак можно свихнуться. В путаных мыслях Кэремясов то ли ругал себя, то ли смеялся над собой. Было ли это сном? Едва ли. Видимо, он еще не спал, когда подумал… «Подумал» – не то, пожалуй, слово, чтобы объяснить, что и как произошло. Он просто лежал, вроде бы ни о чем и не думая. А тут вдруг взяло да сверкнуло в мозгу. Даже не мысль, а одно-единственное слово: Джэнкир! Название его исконных родных мест. Почему именно в эту измучившую его бессонную ночь к нему пришло это полузабытое уже слово? В тоске по детству, как дорогое воспоминание?.. Нет, нет, только не это… Не надо увиливать, обманывать самого себя. Ты уже точно знаешь, почему вдруг всплыло в памяти название твоего родного гнезда. Знаешь, но не хочешь сознаться даже сам перед собой…
– Да нет… – словно пытаясь отстранить искушение и оправдываясь, бормотнул смущенно.
Светлынь плавала в комнате. Наконец Мэндэ Семенович, кажется, задремал. Сон его был тревожен.
Глава 4
Только его здесь и не хватало!
Кого? Где «здесь»? Максима Владимировича Белова – на знаменитой земле колымской.
Ждали: давно заготовлены речи и транспаранты, ораторы и ликующие толпы народа – только б скорее спускался с неба, как Бог из лайнера… «Ур-ра-а!..» И туш. «Да здравствует!..» Снова – туш. Пылает оркестр пожаром.
Он и спустился. Речей и народных шествий, хитрец, избежал, с носом оставил местных руководителей: прилетел инкогнито.
Он и явился.
– Чего надо? – Хмурый голос, не то мужской, не то женский, не разобрать, раздался в щели приоткрывшейся двери, в которую он деликатно стукнул минут пятьдесят назад и теперь еще раз, не более сильно. После чего и услышал тяжелое шарканье, дребезг крюка и этот нелепый вопрос. Ясно ж, зачем среди ночи стучат в гостиницы.
– Можно переночевать?
Последовало незамедлительно:
– Мест нет. – Ответ был, конечно, уклончив. Не в лоб: мол, нельзя! Результат, однако, один и тот же. Дверь затворилась. Даже и без зловещего скрипа. И бедолага, бездомный шатун и скиталец, невесть коим образом заброшенный в ночь, не только послушать удаляющееся шарканье и утешиться тем, что не одинок он на белом свете, а есть рядом живые люди. И пусть не совсем святые, но есть среди них и добрые: тот же шофер самосвала! Разве не он, золотая душа, за так довез до поселка? Еще подмигнул на прощание. Не все же такие! Тут ничего не поделаешь. Приняв безропотно свою участь и бормотнув в пользу бедных: «На нет и суда нет», инкогнито начал спускаться с крыльца.
Разумеется, будь сейчас на месте смиренного агнца иной представитель рода человеческого, обладатель жесткого и решительного характера, – он бы мощно саданул в дверь ногою, забарабанил на всю округу, изверг бы всяческую хулу и угрозы дойти до… и выше. Какой бы славный скандалец местного значения разыгрался! День-другой возбужденное население только и обсуждало бы ночное событие, досталось бы тем и этим; да и третьи бы не избежали общественного порицания. Окажись лихой журналист – прогремел-прославился б неизвестный доселе поселок на всю державу! На юге и севере, на западе и востоке разные сердобольные люди увидели бы воочию с возмущением этот так называемый «приют странников» и командированных, смеющий увенчать себя гордой вывеской, хотя и ржавой и со стертыми кое-какими буквами: «Го… с… н… ца», – жалкую развалюху, обшарпанную, готовую рухнуть в любой момент и погрести под собой «счастливцев», наивно радующихся: «Ах как повезло нам, что мы устроились!» Знали б они… А цербер (конечно же имярек), возомнивший, что охраняет вход в царскую гридницу и что его миссия пропускать только «избранных», превратился б под гневным пером в ничтожество, в грубого и бессердечного держиморду!
«Господи! Как такое возможно? Где мы живем?!» – вскричали бы разом сердца читателей. А у какого-нибудь сентиментального южанина навернулись бы слезы сочувствия: тот, бедолага-то, вынужден был ночевать на улице…
«Бедолага», меж тем спустившись с крыльца, усмехнулся: представил отчаяние обхватившего голову отца: «Я же говорил! Кому ты там нужен? Там своих бродяг и «романтиков» хоть отбавляй! Намыкаешься, обовшивеешь, наголодаешься…» – и т. д. и т. д., что говорится в таких случаях, – и, наоборот, строгий и чуть ироничный прищур матери: «Решай сам, сын! Подумай лишь об одном, простишь ли себе потом, если отступишься, дашь себя уговорить, что мечта и долг подождут?..» Эти слова она иногда говорила ему раньше. В тот же момент он прочитал их в молчании матери.
Однако надо думать и о ночлеге. К счастью, широкая завалинка «Го… с… н… цы» была, похоже, нашпигована опилками. Чем не ложе? Рюкзак – под голову и, накрывшись сереньким небом белой ночи, спи себе на здоровье. Перед тем как погрузиться в блаженный сон, обвел взором нависшую громаду мрачных гор. И, не задержавшись на сравнении их с кавказскими, где отдыхал года два назад с «предками», вольготно вытянул ноги и опустил усталые вежды.
– Чего не стучишь? Не пинаешь ногами?
Голос, казалось, упавший откуда-то сверху, не вдруг просочился в начавшее уже мутнеть сознание, и потому заданный им в ответ вопрос не мог быть из самых мудрых:
– А куда?
– В дверь, конечно.
Открыв наконец глаза, понял, что разговаривает с могучей фигурой, заполнившей весь проем распахнутой двери.
– Что ты там делаешь?
– Сплю.
– Проходи в дом! – повелительно произнесла грозная фигура и исчезла.
Кто бы стал ломаться, поминая прошлое, и потому медлить, показывая, что делает одолжение, – только не наш «бедолага». Мигом подхватившись, взлетел на крыльцо, бесстрашно и безоглядно устремился в кромешную тьму узкого коридора.
– Стой! – Голос раздался почему-то сзади. – Не грохочи: люди ведь спят. Закрючь дверь и подь сюда!
В комнате, куда он пожаловал, свешивалась, сияя, яркая лампочка без абажура. Обладателем мрачного, бесполого существа, как показалось вначале, была пожилая, необычайно громоздкая тетка с широким круглым лицом, на котором среди толстых щек, почти утонув в них, разместились маленький аккуратный нос и сурово поблескивающие из глубины глазки. Стояла она возле ситцевого полога, сложив могучие руки на необъятной груди.
– Спать будешь вон на нем! – кивнула на старый, облезлый, с кое-где выпирающими ржавыми пружинами дерматиновый диван. – Знаешь, почему я тебя сама пригласила?
– Не-ет…
– Потому что не стал тарабанить в дверь!
– Спасибо.
– Ишь ты. Он еще благодарит, чудила! – Странная тетка как будто удивилась. – Откуда взялся ты, такой обходительный кавалер?
– Из Москвы.
– Только-то? – Неожиданный ответ вдобавок и озадачил. Не смогла скрыть недоверия – Все вы только из райских мест! Так-таки прямо из златоглавой и прямо сюда?
– Прямо. – Подозрения не уловил. Отвечал беспечно и бесхитростно.
– Ну ладно, «москвич», укладывайся!
«Москвич» рад стараться: стянул куртку, сбросил кеды, плюхнулся на диван.
– Э-э, да ты совсем, оказывается, ребенок! – удивилась уже по-другому хозяйка гостиницы, собравшаяся было тоже отправиться за свой ситцевый полог. – И худ-то, боже ж ты мой, худ…
Да уж, толстым нашего героя назвать было никак нельзя. Зато рост – коломенская верста, хоть голову задирай. Лицо – нежно-белое. Глаза – наивно-голубые. Волосы – цвета созревшей пшеницы. Других особых примет не было.
– Ты, парень, и вправду к нам из Москвы?
– Вправду.
– Сколько лет стукнуло?
– Девятнадцать. – Тут «москвич» немного приврал: девятнадцатый год ему только шел. Но, по сути, разве это не одно и то же?
– Завтра тебя милиция за шкирку не схватит?
– П-п-почему? – стал заикой от изумления.
– Ты не убежал из дому? Мать, отец имеются?
– Конечно. – Можно было бы обидеться, что его принимают за бродягу, но он не обиделся. И к этому был готов.
Видавшую виды хозяйку тоже заинтересовал занятный парнишка, не похожий на кое-каких шаромыг и искателей сомнительных приключений. Утех были хитрые, увертливые глаза, да и некоторые повадки, выдававшие, что у этих людей есть какая-то тайна, которую лучше не обнаруживать. «Москвич» же весь как на ладони.
– Как зовут тебя, сынок? – Голос тетки потеплел. И теперь стало совершенно ясно, что он женский.
– Максим. – Наверно, не следовало отвечать так – быстро и простодушно, как ребенку. Точно почувствовав промашку, добавил поофициальней – Белов.
– Максимушка, ты, конечно, голоден? Я мигом…
– Нет-нет, что вы? Я сыт! – Волки так и щелкали зубами у него в животе.
– Так я и поверила, как же: он сыт! – Возмущенная наглой ложью и не привыкшая добро выражать нечаянно налетевшее на нее доброхотство, фурией метнулась за полог. – А я, дура, еще спрашиваю! Где он поест в такую поздынь, да еще в чужом месте?
Пока Максим мучительно решал, принять или отказаться от приглашения, с каждой минутой добревшая и становящаяся все более грациозной хозяйка, гремя тарелками, уже метнула на стол крупные румяные пирожки, божественный аромат которых чуть не оглушил его и не лишил сознания. Может, впервые понял справедливость старинной мудрости: голод – не тетка.
– Садись, сынок, поешь!
Отказаться было бы верхом неприличия, и Максим принялся за дело. Скрестив руки на груди, хозяйка стояла рядом и умильно-жалостливо смотрела, как дорогой гость опустошает тарелку.
– Вку-усно! – сумел остановиться, когда осталось лишь два сиротливых пирожка.
– Доешь, доешь!
Немного поколебавшись, Максим взял еще один.
– Спасибо!.. Простите, я даже не знаю, как мне вас называть?
– Просто тетя Нюра. Скажешь так, – и всяк меня тут узнает.
– Спасибо, тетя Нюра.
– Значит, знакомых у тебя, говоришь, здесь нет?
– Нет. – Максим не помнил, чтобы она его об этом спрашивала.
– Чего ж ты сюда приперся?
– Работать. У меня – каникулы. – Работать – оно конечно. О том же молчок, чтобы, главное, склонить голову перед безымянной и неведомой могилой, в которой лежит его дед. И еще великое множество таких же безвинно погибших людей.
– Где же ты собираешься работать? – Само собой, тетя Нюра не могла догадаться о другом, о чем Максим не сказал ей.
– Где-нибудь на прииске.
– Дудки! Прииска, милый, давным-давно полностью укомплектованы людьми – пора-то поздняя. Но– ах ты, батюшки, из головы вон! – позавчера тут вывесили новое объявление. Мне сказали, чтобы я всем приезжающим его показывала.
– Где оно, объявление? – Максим так и подскочил.
Вышли в коридор. Тетя Нюра включила свет.
– Читай вот.
Глаза Максима стремительно пронеслись по небольшому клочку бумажки: «Объявление комбинату требуются рабочие в бригаду старателей – Желающих для справок приглашаем по адресу Набережная 28 Дирекция».
– Спасибо, тетя Нюра! – выпалил по инерции, как и читал: одним духом и без знаков препинания.
– Рано еще благодарить. Не каждый выдерживает работать в старателях.
– Я выдержу!
– Ну-ну, с утра туда и потопаешь. А сейчас – спать. Я свет тушу.
Максим накрылся курткой. Через некоторое время послышались тяжелые осторожные шаги, и сверху на него пушистым облаком легло ласковое одеяло. Уже смежив безвольные веки, услыхал, как рядом шумно вздохнула тетя Нюра. «Как моя мама», – еще успел подумать он.
На Набережной, 28, Максим обнаружил небольшой ветхий домишко под трухлявой крышей, кое-где испятнанной грубой заплатой из толя и рубероида. Только открыл дверь – шибануло острой табачной вонью. В довольно просторной комнате, с небольшим столом в углу, находилось человек десять: кто оседлал расшатанный табурет, кто сидел на подоконнике, кто подпирал спиной стену; некоторые расположились прямо на полу, на корточках.
– Здравствуйте! – остановился у порога.
Никто не отозвался. Молчуны нехотя оглянулись на одинокий голос и продолжали по-прежнему густо дымить.
– Здравствуй, коли не шутишь, – за всех ответил пожилой, худой и лысый, восседающий за столом. – К кому пожаловал?
– Сюда.
– А ты, паря, уверен, что не ошибся адресом? – вдруг оживился один из сидящих прямо на полу, багроволицый, атлетического сложения мужчина лет тридцати. На его густых патлах необъяснимым образом прилепилась старенькая кепчонка с крошечным козырьком, напяленная набекрень. – Детский сад, знаешь, находится на другом конце поселка!
Грохнул радостный смех и гогот, отчего пелена табачного дыма испуганно ворохнулась.
– Я пришел именно сюда, – заупрямился Максим. – По объявлению.
– Поступать в бригаду? – уточнил худой и лысый.
– Какая там еще бригада? Я же говорю: он сюда забрел нечаянно, в поисках пропавшего детсада, куда имеет направление! Посмотрите-ка, он еще сопли носит!
Максим и сам не заметил, как громко шмыгнул носом.
Люди опять заухали и заржали.
– Ну-ка ты, Тетерин, прекрати. – Лысый не повысил голоса, но слегка прихмурился. – Кто послал?
– Я сам.
– Ты кто по работе?
– Студент.
– Меня интересует твоя специальность.
Максим смешался.
– Я… ну, в общем… хочу работать!
– Иди сюда, садись, – Лысый показа, л на табуретку, придвинутую к столу. – Работать-то ведь можно всяко. Один – повар, второй – портной, третий – шахтер. Ты что умеешь делать? Работать на бульдозере можешь?
– Нет…
– На тракторе?
– Нет…
– На автомашине?
– Посещал школьный кружок.
– Шоферские права имеешь?
– Нет…
– Что ты будешь делать тогда в бригаде? – собеседник Максима с разочарованным видом потер лысину.
Откуда Максиму знать, какая там, в старательской их бригаде, подошла бы для него работа.
– Не знаю.
– Лопатой грести золото сможешь? – с необыкновенно серьезной миной спросил Картуз-набекрень.
– Лопатой?
Ну да, лопатой. Вот такой большой и широкой, захватистой. – Широко растопырил руки, показывая размеры предполагаемой лопаты, затем, – как надо ею грести. – Вот так, вот так! Именно золото и только золото! Сможешь, а?
– Сумею…
Зрители, довольные бесплатным представлением, опять дружно загоготали.
– Умерь свою прыть, Тетерин. Дай с человеком путем поговорить, – неприязненно покосился Лысый на самозваного шута. – Нам не хватает еще двух. Может быть, его… Как зовут?
Лицо Максима, понявшего наконец, что Картуз-набекрень его тут сейчас просто разыгрывал, запылало. Он еле выдавил из себя:
– Белов.
– Может быть, этого Белова нам стоит принять к себе? Весьма сомнительно, чтобы готовый старатель сам заявился к нам без особого приглашения, а время идет. Что скажете?
Подле Лысого сидел, откинувшись к стене, худощавый, но, похоже, весь свитый из жгутов тугих мускулов мужчина, кавказец по внешнему облику, с досиня выбритым лицом и горящими черными глазами. Выплюнув дотлевший окурок, повелительно обратился к Максиму:
– Сними тужурку!
Опасаясь очередного розыгрыша, тот не шевельнулся, растерянно заморгал.
– Сними, – кивнул Лысый.
– Ух и ах! – опять поспешил обскакать всех Картуз-набекрень. – Я же говорил: детсад!
– Покажи мускулы, – продолжал распоряжаться кавказец. – Засучи рукава!
Максим чуть приподнялся, но тут же сел обратно. Где-то он читал, что в старину крестьяне, покупая на базаре лошадь, – вот так же старательно и обстоятельно оглядывали, общупывали, испытывали ее. Теперь ему прикажут открыть рот.
– Ну-ка, Чуб, пощупай!
Старообразный старатель с морщинистым лицом, сутулясь, подошел к Максиму и через рубашку небрежно, но цепко сжал его руку.
– Ничего нету. Одна вода.
– Если не можешь управиться на технике, должен хоть обладать крепкими мышцами, – почти без акцента высказал свое мнение кавказец. – Не так ли?
– Так, так! – подтвердили артельщики.
– Ну, вот так, сам все слыхал, товарищ Белов, – Лысый опустил глаза.
С курткой под мышкой, багровый от стыда и позора, Максим не помнил, как очутился на улице…
День прошел в напрасных поисках работы. Всюду, куда он ни обращался, в его услугах не нуждались. Подсобным рабочим в магазине не захотел стать он сам.
В гостиницу приплелся поздно вечером.
– Ну что? – встретила его тетя Нюра.
– Н-нет…
– У Журбы не был?
Не зная, кто такой Журба, Максим посмотрел на нее вопросительно.
– Да у бригадира старателей, на Набережной.
– А-а, это у Лысого, что ли? – машинально провел ладонью по макушке. – Был.
– Что он говорит?
– Им требуется бульдозерист или механик.
– А в простом рабочем они разве не нуждаются?
– Говорят, у меня мускулов маловато, – смутившись, вынужден был признаться.
– Ну и что?
Максим с деланно-беззаботным видом неопределенно махнул рукой.
– Ладно, иди умойся и прочее. В седьмой комнате койка освободилась. Твой рюкзак уже отнесла туда. Есть будешь?
– Спасибо, тетя Нюра. Только что поел в столовой. – На этот раз не обманывал.
– Ладно, иди спи. Утром заходь ко мне чай пить.
…За утренней трапезой состоялся следующий решивший судьбу Максима разговор.
– Максимушка, куда ты хочешь устроиться на работу? – Этот вопрос тетя Нюра задавала ему и в первый раз, но почему-то задала и теперь.
– Мыть золото.
– А чего не работать тут, в поселке?
– Нет, тетя Нюра! – замотал головой.
– Как будто там тебя так и ждут не дождутся! Как же: сам Максим Белов из Москвы!
– Хоть и не ждут…
– Ну, тогда вот что, милай, – выложила на стол мощные ручищи. – Сейчас сходим вдвоем!
– Эт-то к-куда? – чуть не поперхнулся.
– К Журбе.
– Что вы, нельзя… Тетя Нюра, лучше я сам!.. Я сам!..
– Не шуми! – Нажав тяжкой рукой на плечо, усадила пытавшегося было вскочить Максима. – Тебе же отказали. А мне не откажут! Пусть только попробуют!
– Тетя Нюра!..
– Кончил еду? – Она решительно сняла передник, кинула его за ширму и, крикнув куда-то в глубину коридора – Глаша! А, Гла-ша! Я скоро вернусь! – легонько подтолкнула Максима, решившего ни за что не идти. – Шагай давай!
Скрепя сердце пришлось плестись. «Ладно, перетерплю несколько позорных минут. Все равно же прогонят», – и успокоился. Лишь бы «казнь» совершилась как можно скорей.
Выйдя на Набережную улицу, тетя Нюра вдруг остановилась и грузно повернулась к понурому спутнику.
– Сынок, дай слово, что будешь работать хорошо – на совесть. Ну?
– Честное слово!
…На Набережной, 28, народу набилось гораздо больше вчерашнего. Если вчера табачный дым ходил облачком, сегодня стоял коромыслом. Вчера больше помалкивали (смурное настроение разрядило появление Максима), нынче каждый говорил что-нибудь, хоть бы и не рассчитывая быть услышанным, – гвалт несусветный.
В первое мгновение сама тетя Нюра, похоже, не то чтобы растерялась, но слегка смутилась. Тут же решительно передвинула пестрый платок к затылку, глубоко вздохнула и, как бульдозер, не церемонясь, растолкала-разбросала ближнюю кучку людей, направилась к столику.

