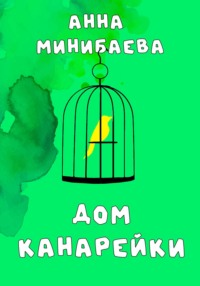
Дом канарейки

Анна Минибаева
Дом канарейки
О добрыхъ же женахъ рече: «Дражьши есть каменья многоценьнаго. Радуется о ней мужь ея. Дѣеть бо мужеви своему благо все житье. Обрѣтши волну и ленъ, створить благопотребная рукама своима. Бысть яко корабль, куплю дѣющь, издалеча събираеть себѣ богатьство, и въстаеть из нощи, и даеть брашно дому и дѣло рабынямъ. Видѣвши тяжание, куповаше, от дѣлъ руку своею насадить тяжание. Препоясавши крѣпько чресла своя, и утвѣрьди мышьци свои на дѣло. И вкуси, яко добро дѣлати, и не угасает свѣтилникъ ея всю нощь. Руцѣ свои простираеть на полезная, локти же свои утвѣржает на веретено. Руцѣ свои отвѣрзаеть убогимъ, плодъ же простре нищим. Не печеться о дому своемъ мужь ея, егда кдѣ будет. Сугуба одѣнья створит мужю своему, очерьвлена и багъряна себѣ одѣнья. Възоренъ бываеть въ вратѣхъ мужь ея, внегда аще сядеть на соньмищи съ старци и съ жители земля. Опоны створи и отдасть в куплю. Уста же своя отвѣрзе смыслено и въ чинъ молвить языкомъ своим. Въ крѣпость и в лѣпоту облечеся. Милостыня ея въздвигоша чада ея, обогатѣша, и мужь ея похвали ю. Жена бо разумлива благословлена есть, боязнь же Господню да хвалит. Дадите ей от плода устъну ея, да хвалять въ вратѣхъ мужа ея».
Повесть временныхъ лет черноризца Федосьева Манастыря Печерьскаго, откуду есть пошла руская земля1
*ръtа
И възрадовася вся земля о съвокуплении брака ею. И по браце целомудрено живяста, яко златоперсистый голубь и сладкоглаголиваа ластовица, съ умилением смотряху своего спасениа, въ чистеи съвести, крепостию разума предръжа земное царство и к небесному присягаа, и плотиугодиа не творяху.
Слово о житьи и о преставлении великаго князя Дмитриа Ивановича, царя рускаго2
Глава первая. Неблагодарная
В это время года в Кусе слякотно и мерзко. Налипшие за зиму на дороги и тротуары пласты снега, при уборке похожие на разрез слоеного торта, раскисают и расплываются грязной холодной кашей. В ней тонут ноги. Она протекает сквозь швы ботинок, холодными пальцами обхватывает ступни, пускает по телу мелкую дрожь, высасывает тепло. По этой мерзкой каше люди идут тяжело, с трудом вытаскивая ноги, ища опоры в еще мерзлом воздухе, смешно раскидывают руки, будто пингвины.
Но даже там лучше, чем за этим столом.
Наташа вздыхает, отрывает взгляд от окна, за которым живет свобода от этих пристальных оценивающих взглядов и бестактных вопросов, бесконечных рассказов о детях маминой подруги. Но уйти она не может – скажут, мол, что за невоспитанность? И мама закатит глаза и начнет причитать: всю жизнь к их ногам положишь, а дети все равно неблагодарные, пять минут с семьей посидеть не могут. И Наташа не отказывает, сидит. Пять минут растягиваются сначала до получаса, потом до часа, потом до двух. Ей хочется ускользнуть из-за стола, по пути стянув бутылку вина, налить вино для конспирации в термокружку, утечь сквозь руки пьяных дядюшек, норовивших увлечь ее в танец под орущую попсу, сбежать от этого топота и грохота, шатающихся на кривом полу шкафов, – туда, на улицу, в мерзлую слякоть.
Но пока Наташа сидит за столом и послушно кивает, вежливо отвечает, ест бесконечные залитые майонезом салаты.
– Вот Наташка, какая вымахала! Жених-то есть уже? – хихикает тетя Надя и сально подмигивает покрасневшей Наташе.
– Какой ей жених? – спрашивает тетя Лена, она накануне приехала из Тюмени со своим третьим мужем, здоровенным, резко пахнувшим сигаретами. – Вот уедет в Челябинск, найдет себе там жениха. А тут, в Кусе, разве перспективного встретишь? Все нормальные живут в больших городах.
Наташа хочет возразить, что ее друзья молодцы и в прошлом году уже поступили в хорошие вузы, и занимаются горнолыжным спортом, и читают рэп, но она знает, что теткам лучше не возражать, и поэтому молчит. Хотя обидно. В Кусе перспективных нет, сказала тетя, значит, и она бесперспективная, годная лишь на то, чтобы удачно выйти замуж?
Мама суетится, бегает от кухни к столу. Принести салаты, проверить горячее, нарезать еще хлеба, а вот тут освободилось место для фруктов, надо принести, скоро вино закончится, ты куда его дел, Леш? Папа сидит королем во главе стола, хмыкает в ответ на россказни дяди Толика, подливает вино раскрасневшимся теткам с уже блестящими глазами.
И не сказать, что какие-то два часа воздух в доме звенел от скандала – обычного спутника подготовки к семейному застолью.
Наташу как всегда заставили мыть полы, она возила тряпкой по ламинату, тихо ненавидя праздники, а мама, пробегающая мимо то с охапками моркови, то с полным пакетом картошки, отвешивала недовольно:
– Ну кто так моет, Наташ? Кто против волокон тряпку возит? Разводы же будут! Кому ты нужна такая, если даже полы мыть не умеешь? Поедешь в общагу жить – тебя ж другие девчонки засмеют!
– Не нравиться – сама мой, – огрызнулась Наташа.
Мама вся раздулась, как жаба, и заорала:
– А почему в этом доме я все делать должна? Я вам служанка, кухарка? Попросила чуток помочь матери, и то не можете! Оставляй швабру, я сама помою!
Наташа вцепилась в швабру что есть мочи, и мама, несколько раз дернув за рукоятку, ушла на кухню – готовить салат, обильно орошая его слезами. Наташа продолжила мыть пол. Мамина истерика закончится с приходом первого гостя, она это знала, но в груди все равно шевелилась червоточина, шептавшая «неблагодарная, неблагодарная».
Кажется, эта червоточина появилась в момент Наташиного рождения. Вот краснокожая девочка с черными волосами, похожая на сморщенного старикашку, появилась на свет – а вот у нее на груди, чуть ниже ямочки на ключице, похожая на черную уродливую изюмину с прорезью вместо рта червоточина. Так Наташа ее представляла.
Первое Наташино воспоминание: ей около трех лет, и она бежит за стайкой голубей и весело хохочет. Гули веселые: неуклюже перебирают лапками, смешно подпрыгивают и взмахивают крыльями, но не улетают. Потом Наташа видит пруд, по нему плывут утки. Она аккуратно сползает по крутому берегу к самой кромке воды, присаживается на корточки и наблюдает за птицами. Наташа очень горда собой, чувствует себя настоящим исследователем. Кажется, она просидела там недолго. Когда утки стали еле различимыми точками на горизонте, Наташа возвращается к родителям. Ей хочется рассказать, как много нового она узнала: что утки ныряют за едой и их попки при этом смешно торчат над водой хвостом вверх, что они взлетают прямо с воды, быстро-быстро хлопая крыльями, и что некоторые из них коричневые, а некоторые такие красивые, разноцветные с белым тельцем и ярко-зелеными переливающимися головками.
Но мама бросается к ней с перекошенным лицом, кричит, куда она пропала, как посмела отойти от них с папой, как сильно у нее, мамы, заболело сердце, когда она не увидела Наташу рядом. Все Наташины слова об утках вдруг забываются, вытесненные одним-единственным словом, которое шепчет червоточина.
Неблагодарная.
Иногда червоточина молчала, иногда еле слышно шептала, а иногда кричала так, что Наташа не могла даже слова сказать: только рыдала и заикалась, мыча что-то нечленораздельное.
Чаще всего Наташа старалась не делать ничего, что разбередит червоточину: она не возражала старшим, уступала бабушкам, теткам, младшим братьям и сестрам, ничего не требовала, прилежно делала уроки, получала только хорошие оценки. Но везде соломинки не подстелешь – иногда Наташа, задумавшись, зачитавшись или заигравшись, забывала, например, прибраться дома, плохо пропалывала грядки, пропускала спелые ягоды на кустах, и тогда, слушая мамины причитания, она ощущала, как противно ерзает, пищит, набирает силу червоточина.
Она научилась не обращать на нее внимания только пару лет назад, став, как говорила мама, ершистой и холодной.
– Где твой отец? – крикнула мама из кухни, будто это Наташа выбирала себе папу, а не она – мужа. – Опять уперся пешком, что за мода такая? Гости придут через два часа, а он до магазина гулять решил! Ну, что за мода? Машину, что ли, взять нельзя?
Наташа набрала папу, но тот сбросил. Хлопнула входная дверь. Наташа оставила швабру посреди комнаты и пошла встречать отца, знала, что у того наверняка набиты все руки – скоро заорет. Приняла у него пакеты с молоком, уже норовившие выпасть из сгиба локтя, унесла на кухню. Папа – в одной руке набитый пакет, во второй огромный ананас – прошел следом. Мама тут же набросилась на него. Тот рявкнул в ответ.
Наташа поспешила вернуться к швабре, надела наушники, чтобы не слышать, но музыка не заглушала криков и оскорблений.
Это она виновата, Наташа знала это. Сколько раз мама говорила, что до ее рождения они с папой вообще не ссорились. В дом вместе с Наташей пришли ссоры и скандалы, и взаимные оскорбления, и поэтому она чувствовала себя разрушительницей их счастья. И поэтому решила, что у нее никогда не будет ребенка. Слишком высока цена – нормальные отношения с мужем.
Скорее бы уехать в Челябинск или в Екатеринбург: перестать быть помехой, причиной ссор, не слышать больше нравоучений, жить, наконец, своим умом.
Она поступит в вуз, получит стипендию, устроится на работу. Она вытащит себя из этого города за волосы, как барон Мюнхгаузен из болота. Она будет ездить по миру, наслаждаться кофе за маленькими столиками в Италии, любоваться на Эйфелеву башню, пить пиво на Октоберфесте, а рядом – наверное – будет тот, кто полюбит ее вот такую странную, непропорциональную, с огромной попой, грудью нулевого размера и робким взглядом. Когда она думает об этом, ей кажется, что от нее исходит свет, глаза сверкают, плечи расправляются, за спиной появляются крылья. Оттолкнешься – и лети.
Нужно лишь потерпеть еще чуть-чуть, преодолеть темную бездну, которая раскинулась между Наташей сегодняшней и Наташей будущей.
И сдать экзамены, конечно.
– Да какие женихи, вы о чем? – охает мама. – Наташенька у нас такая робкая, такая стеснительная…
– Нечего про женихов думать, пока в вуз не поступила, – стучит кулаком по столу отец. – Ты, Наташка, заруби себе на носу – не поступишь на бюджет, я тебе денег не дам! Пойдешь вон в наш технарь учиться и уборщицей работать, так и знай! Некогда сейчас, значит, о мужиках думать.
– Правильно, – гогочет тетя Надя. – А то всю жизнь на шее у родителей провисит или, не дай боже – тьфу, тьфу, тьфу – в подоле ляльку принесет. Ты куда поступать-то будешь, Наташк?
– На филфак, – хмуро говорит Наташа. Она считает, что уж тете Наде следовало бы в свое время ляльку принести в подоле, может, не была бы сейчас такой злобной.
– Чтоб потом в Макдаке работать и «свободная касса» кричать? – хохочет тетя Лена. – Ты, Наташка, не обижайся, это я так, шучу. Говорят, из филологов получаются классные матери.
Тетя Лена еще хуже: считает себя лучше всех, раз живет в большом городе, нос задирает выше голливудских звезд, а сама трудится кассиршей в супермаркете и красит волосы в отвратительный желтушный цвет.
Наташа так думает, но молчит. «Терпи, терпи», – поет червоточинка в груди. И Наташа терпеливо ждет, когда взрослые, наконец, найдут другой объект для насмешек и сплетен.
– Хочешь, я тебе своего попугая покажу? – заговорщески наклоняется к ней Ромка, сын тети Лены. – Мне мама купила на дэрэ. У меня видосик есть.
Ромка всего лишь хочет еще раз похвастаться своим сенсорным телефоном:мол, смотри, Наташа, как городские живут, а ты до сих пор кнопочный таскаешь, как нищая.
– Не надо, – резко говорит Наташа.
– Это еще почему?
– Потому что не люблю смотреть на животных в неволе. Ему бы в родные джунгли, а ты закрыл птицу в клетке и радуешься ее несчастью.
Наташа хочет закончить, но не может сдержаться и говорит, будто плюет:
– Живодер выпендрежный.
Ромка открывает рот удивленно, а потом ныряет под стол, ползет до матери, прячет лицо у нее на груди и что-то шепчет, всхлипывая.
– Ты как моего сына назвала, пигалица? – ревет тетя Лена, встав и загородив собой половину потолка.
– Лена, успокойся, успокойся, – мама бросает на Наташу злые взгляды, округляет глаза. – Иди, иди, Наташа, погуляй.
Дважды ее просить не надо. Наташа встает и бежит в коридор, накидывает пуховик, хватает шапку.
– Ты не переживай, Ромка, – ржет папа. – Наташка у нас немного того… как это… зоозащитница, короче.
Дядя Толик начинает рассказывать, как он отстреливает кошек на своем участке.
– Задолбали, только гадят везде и перепелок воруют, я так соседям и сказал, еще раз ваших скотин увижу, отстрелю нафиг…
Ботинки проваливаются в промозглую слякоть, по самые щиколотки, но пока держатся, не мокнут. Все равно холодно. Быстрей бы уехать отсюда, из этого тухлого места. Наташе тесно здесь, она прорастает сквозь дыры этого города, она боится застрять, не выбраться. Челябинск, Екатеринбург, Москва манят свободой, ночными тусовками, широкими проспектами, яркими огнями, новыми неведомыми запахами. Ее друзья уже влились в эту жизнь, стали ее частью, а она до сих пор гниет тут, в Кусе. Наташе здесь гадко. Одноклассники улыбаются ей на уроках, надеясь списать, а за глаза обсуждают ее одежду, фигуру, облезшие каблуки на дешевых, но таких красивых розовых сапогах со стразами…
И все же облезлые каблуки лучше тех ботинок, которые предлагает мама: сапоги местного производства, страшные, с длинными носами, в которых ее ноги выглядят на 41 размер, зато качественные, на долгие годы вперед.
Ничего ты не понимаешь, Наташка, надо было маму слушать, а теперь вот ходи с облезлыми каблуками до конца сезона.
Если бы Настя была тут, можно было бы завалиться к ней. К Насте всегда было можно, но она уехала год назад вслед за своим парнем Костей – форменным козлом, который, Наташа сама видела, несколько раз уже поднимал на Настю руку. Наташка не понимала, как можно мириться с этим. Бьет – значит, бьет, так всегда говорила мама.
Папа маму никогда не бил. Орал и оскорблял, обзывал страшными матерными словами в порыве злости, но бить – никогда.
В последнюю их встречу они с Настей даже поругались по этому поводу, и теперь Наташа не знала, стои́т ли еще их дружба, или уже рассыпалась, как десяток ее отношений с другими «подругами» до этого.
Нет, Настя другая, она никогда не пренебрегала их дружбой, не забывала, будто случайно, пригласить гулять, ничего не скрывала и всегда говорила правду.
Наташа никогда не позволит себя бить. Она выше этого. Она себя уважает. И Настя тоже поймет, что это ненормально. Со временем.
Ноги сами принесли Наташу к цветочному ларьку со сказочным названием «Семицветик», за которым они с Настей часто качались на качелях. Она стерла воду с доски, уселась на холодную поверхность и оттолкнулась ногами от земли.
Не надо было обзывать Ромку живодером, он просто дурак малолетний, вот и все. А вот теткам стоило ответить. Еще раз такое услышит о себе и скажет, да, точно скажет, что пусть сначала на себя посмотрят, а потом ее осуждают. Что уже по сорок лет, а не добились ничего существенного, что одна сидит, как сыч, в этой Кусе, а другая мужиков меняет, как перчатки. И плевать, что потом выслушивать от родителей в очередной раз о неблагодарности и невоспитанности. Будто бы не они ее воспитывали, а кто-то другой, неизвестный.
Но нет, Наташа так не скажет. Может быть, потом, когда неуверенная в себе кусинская девчонка превратится в напористую журналистку, или скептического редактора, или авторитетного ученого, или – кто знает – мудрого писателя. Это будет другая Наташа, которая утрет нос наглым теткам, подарит родителям дом, о котором так мечтает мама, отправит их отдыхать в Турцию. Наташа, которая, наконец, сможет сказать: «Выкусите, родственнички».
Воздух впивается в лицо ледяными колючками, когда Наташа летит вперед, но она не останавливает качели.
– И охота тебе качаться в такую погоду? – раздается голос.
Рядом с Наташей стоит, облокотившись на стойку, Сережа. Смотрит внимательно и серьезно, в огромном пуховике не по размеру, в котором он со спины похож скорее на дворника, чем на спортсмена.
Сережа занимается хоккеем в секции у местной звезды – чемпиона мира Александра Петровича. Тренер мог бы жить в любой точки России, но выбрал Кусу. Наташа не понимала, почему.
Два года назад, в 9 классе, они с Сережей встречались несколько месяцев. Наташа помнила робкие поцелуи, которые для нее были первыми, молочный вкус его губ, теплые большие руки, в которых чувствуешь себя тепло и безопасно. Сережа рассказывал о своих мечтах: как он поступит в военное училище, отдаст долг Родине, станет известным хоккеистом и будет выступать в «СКА» или в «Вашингтон Кэпиталз», а на склоне жизни, лет после 35, вернется в Кусу, чтобы как Александр Петрович обучать здесь детишек хоккею и футболу и открыть секцию по начальной военной подготовке. Наташа, не имевшая и понятия тогда, куда ей поступать после окончания школы, слушала завороженно и представляла себя верной спутницей военного или хоккеиста, которая ездит вслед за ним по стране, чувствует романтику дороги и томительное ожидание любимого героя с поля боя. После командировок Сережа будет приходить домой с огромным букетом роз, таким большим, что он даже не поместится на фотографию ВКонтакте. А еще они будут ходить в шикарные рестораны, и она будет делать красивую укладку, как у моделей в рекламе шампуня, и на ней будет струящееся платье с открытой спиной.
Приближался ее день рождения, и Сережа спросил, что ей подарить. Она, представляя большого мишку Тедди – самый романтический подарок, который она могла представить, попросила мягкую игрушку. В день икс она в радостном ожидании ждала Сережу на лавочке на Арбате, а он пришел с пустыми руками, мокро поцеловал ее в щеку и вытащил из-за пазухи маленького говорящего Лунтика, державшего в руках красное сердечко. Радостное ожидание Наташи разбилось вдребезги, а вместе с ним разбились и романтика дороги, и шикарный букет из роз, и дорогие рестораны, и струящееся платье с открытой спиной. Она, преодолевая подступивший к горлу ком, выдавила «спасибо» и вдруг разрыдалась.
– Ты чего плачешь? – опешил Сережа, с лица которого тоже сползла улыбка.
– Ни… ничего, – всхлипнула Наташа, а червоточина в груди снова запела: «неблагодарная, неблагодарная».
И вдруг стало так стыдно.
Стыд давил на спину, пригибал голову к земле, не давал набрать в легкие воздуха. Сережа попытался ее обнять, но она увернулась, побежала, что есть мочи домой, прыгнула на диван и залила его горькими слезами. В голове пульсировало: «неблагодарная, неблагодарная, кто тебя такую замуж возьмет». Сережа звонил, писал в агенте, аське, ВКонтакте, строчил эсэмэски, но она не отвечала. Стыд заливал глаза, она вся плавилась под бессмысленным взглядом Лунтика, превращалась в ничего не представляющий из себя кисель с глазами. Лунтик смотрел и смотрел, а на его сердечке насмешливо горела надпись «I love you», и Наташа засунула игрушку подальше в шкаф, чтобы не видеть. Сережа перестал звонить ей через несколько недель, а когда они случайно столкнулись на улице, оба сделали вид, что не знают друг друга. Так нелепо кончилась их история любви, толком и не начавшись.
И сегодня Сережа заговорил с ней впервые с того случая.
Наташа прячет глаза. Замолчавший было стыд снова заливает ей уши красной краской.
– Привет, – тихо говорит она. – Мне нравится качаться. Когда-нибудь, лет через десять, куплю себе большую квартиру и повешу на балконе качели.
Наташа хотела бы извиниться перед ним, сказать, что не хотела обидеть, что повела себя, как дура, но не может найти в себе силы. Да и что говорить, когда прошло два года – целых полжизни для подростка.
Сережа садится на соседние качели, Наташа щекой, рукой, боком чувствует горячее тепло, которое исходит от него. Она ведет плечом, чтобы сбросить это ощущение, но оно, отступив на секунду, накатывает с новой силой. Сережа не захочет с ней общаться после того, что она сделала. Она бы не стала.
– Ты хотел поступить в военное после девятого класса, получилось?
Наташа иногда заходила на его страницу «ВКонтакте» и в «Мой мир», но там ничего не было – только фотка с медалями на аватарке и бессмысленные тупые цитаты на стене. Лайков от девчонок тоже было много.
Сережа вздрагивает, будто она его ударила, а когда начинает говорить, голос его звучит, как заготовленная запись в магнитофоне:
– Не прошел по здоровью. Поступил в колледж в Златике, живу пока там. Может, хоть в армию возьмут. А ты?
– Готовлюсь к ЕГЭ, буду поступать в универ в Челябинске.
– Здорово.
– Ага.
Они оба замолкают. У Наташи мерзнут руки, ей очень хочется, чтобы Сережа взял ее ладони в свои и погрел, как когда-то. Она уже хочет потянуться к нему – и будь, что будет, но одергивает себя за секунду до движения. Зачем им новое разочарование, думает она. Не бывает любви на расстоянии, она это точно знает. Настя потому за Костей и уехала. А бросить все свои мечты и поступать в Златоуст, менять шило на мыло? Нет, это не для нее, она хочет стать журналистом или редактором, или писателем, или все вместе. В эту парадигму не вписывается парень с разбитыми мечтами в пуховике с чужого плеча, нет. Поэтому она сует руки в карманы и перестает раскачиваться. Сейчас качели медленно остановятся, и тогда она уйдет, оставит прошлое в прошлом.
Но как же горячо плечу…
Глава вторая. Алые цветы
Челябинск оглушил Наташу какофонией звуков, закружил в череде вечеринок, на которые ее водили друзья, с каждым днем убыстрял темп доселе медлительной жизни. Люди здесь часто жаловались на смог, но эта дымка, опускавшаяся на город чаще всего по утрам, вместе с туманом, пахла для Наташи свободой.
По началу, конечно, пришлось адаптироваться. Наташа, лучшая в своем классе, вдруг оказалась в компании людей, намного умнее, смелее и напористее, чем она. Они были современными, ходили с сенсорными телефонами, читали Пелевина, критически мыслили, разбирались в политике, смотрели свысока, в полном ощущении своего превосходства. Наташа прятала свою кнопочную Nokia XpressMusic, не признавалась, что еще вчера читала юмористическое фэнтези, была не уверена в себе и не понимала, почему они засмеялись, когда она спросила, кто такой Навальный. Наташа чувствовала, что ее сознание закостенело и не могло угнаться за мыслью этих ярких современных молодых людей, чей рост не стеснял маленький город. Их отличие стало заметно на первом же занятии. Преподаватель написала на доске три слова: «жрать», «кушать», «есть». Студенты должны были распределить их стилистически от наименее употребительного, до более нейтрального. Люська, сидевшая рядом с Наташей, подняла руку и выпалила голосом отличницы: «Самое низкое – «жрать», потом «есть» и самое высокое – «кушать». Женька, высокий парень с модной стрижкой, сидящий позади них, громко хмыкнул и пробормотал под нос: «Плебейка». Улыбка с Люськиного лица сползла вместе с объяснениями преподавателя, что «кушать», вообще-то, употребляется только по отношению к детям и животным, а стилистически нейтральным и общеупотребительным является только слово «есть». Наташа закрыла рукой листочек, на котором она написала тот же ответ, что и Люська. Плебейкой быть не хотелось.
Ее кусинские друзья здесь, в Челябинске, были совсем другие. Они тоже смотрели свысока, улыбались снисходительно, постоянно норовили указать на свой опыт жизни в большом городе. Они пристрастились к настольным играм, курили кальян, пили абсент, поджигая его с помощью палочек для суши. Из всего этого списка Наташе нравились только настолки. Она кивала и улыбалась, слушая наставления друзей, понимая, что пройдет несколько лет, она вольется в кипучую суету Челябинска, и это их преимущество перестанет быть важным. Пусть выделываются, пока могут.
И она была права. Несмотря на Наташину инородность, Челябинск прорастал в нее, менял сознание, расширял границы. Она три раза прочитала «Generation P», с каждым разом понимая в ней все больше смыслов, познакомилась с современной зарубежной литературой, начала писать в университетскую газету, встречалась с интересными людьми, ездила помогать в приют для животных. Никогда раньше у нее не было так много пространства для роста. И она росла, росла, что есть мочи, разбрасывая вокруг свои бурные побеги, цепляясь за каждую выпуклость, которую могла нащупать. Наташа сменила ленивую кусинскую жизнь на кипучую, наполненную челябинскую – и время для нее полетело стремительно, как птица, вырвавшаяся на волю из тесной клетки.
Со временем она перестала тушеваться перед более опытными одногруппниками. Однажды они с Люсей, которая в последнее время с подачи своего нового парня увлеклась хоккеем, обсуждали последнюю игру «Трактора». Женька, сидевший за следующей партой, долго слушал их разговор, а потом перебил Люську:
– Девчонки, я вас слушаю, и мне страшно становится. Какой хоккей? Обсуждайте лучше, что в Россию кружевное белье запретили завозить. Так привычнее.