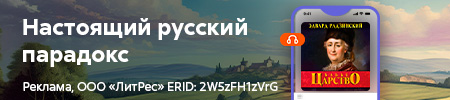0
0Дзэн и искусство ухода за мотоциклом
Первое замечание настолько очевидно, что его лучше придержать, а не то утопит остальные наблюдения. Вот оно: да это скучнее стоячей воды в канаве. Бу-бу, бу-бу, бу-бу, бу, карбюратор, передаточное число, сжатие, бу-бу-бу-бу, поршень, свечи, впуск, бу-бу, бу, дальше, дальше и дальше. Таков романтический лик классического способа. Скучно, неуклюже и безобразно. Сквозь него продираются очень немногие романтики.
Но если придержать это самое очевидное наблюдение, замечаешь и кое-что еще – сначала этого не видно.
Во-первых, мотоцикл, описанный так, почти невозможно понять, если не знаешь, как он работает. Пропали поверхностные впечатления, жизненно необходимые для первичного понимания. Осталась лишь внутренняя форма.
Во-вторых, нет наблюдателя. В описании не сказано: чтобы увидеть поршень, надо снять головку цилиндра. В этой картинке нигде нет «тебя». Даже «водитель» здесь – какой-то безликий робот, который совершенно механически выполняет функции. В описании нет субъектов. Только объекты, независимые от наблюдателя.
В-третьих, отсутствуют слова «хорошо», «плохо» и любые их синонимы. Никаких оценочных суждений, одни факты.
В-четвертых, здесь работает нож. Причем смертоносный – интеллектуальный скальпель, столь острый и быстрый, что иногда незаметно, как он движется. Создается иллюзия, будто все эти детали просто есть, их просто называют. Однако назвать их можно иначе, да и расположить по-другому – смотря как нож пойдет.
Например, тормозное устройство: распредвал, цепь распредвала, толкатели и распределитель, – существует лишь потому, что этим аналитическим ножом проведен необычный разрез. Если придешь в отдел запчастей для мотоцикла и спросишь у них «тормозной механизм», тебя вообще не поймут. Как таковое они его не вычленяют. Все производители дробят его по-своему, нет двух похожих, и каждый механик знаком с этой проблемой: не можешь купить запчасть потому, что ее невозможно найти – производитель считает ее деталью совсем другого узла.
Важно видеть этот нож, каков он есть, а не доверчиво полагать, будто мотоциклы или что угодно таковы лишь потому, что ножу вздумалось так их покромсать. Важно сосредоточиться на самом ноже. Потом я еще покажу, как умение творчески и эффективно работать этим ножом решает проблемы раскола классического и романтического.
Федр владел ножом мастерски, кромсал ловко и мощно. Одним ударом аналитической мысли рассекал целый мир на части как хотел, затем рассекал части и фрагменты частей, все тоньше, тоньше и тоньше – пока не уменьшал мир до желаемого размера. Даже особое употребление понятий «классического» и «романтического» – пример его мастерского владения ножом.
Если б дело было только в его аналитическом мастерстве, я бы немедленно заткнулся. Но Федр употребил это мастерство неподражаемо, однако так значимо, что очень важно не затыкаться. Никто не понимал – я даже думаю, что не понимал и он сам. Может, это моя личная иллюзия, только нож его был, по-моему, скорее скальпелем хирурга-коновала, чем кинжалом наемного убийцы. А может, разницы нет. Но он увидел нечто гадкое, больное и стал резать глубоко – все глубже и глубже, лишь бы добраться до корня. Он что-то искал. Вот что важно. Он что-то искал и за нож взялся потому, что другого инструмента у него не было. Но Федр взвалил на себя так много и в итоге зашел так далеко, что пал собственной жертвой.
7
Жара уже повсюду. Не отмахнешься. Воздух раскален, как муфельная печь, и глазам под очками прохладнее, чем остальному лицу. Рукам тоже прохладно, но на перчатках проступают темные пятна пота с белыми ободками подсохшей соли.
Впереди на дороге ворона клюет какую-то падаль и медленно взлетает, когда подъезжаем. Кажется, на асфальте валяется ящерица – высохла и прилипла.
На горизонте появляются очертания зданий, они слегка мерцают. Сверяюсь с картой: должно быть, Боумен. Воды б со льдом да кондиционер.
Почти никого не встречаем на улицах Боумена, хотя стоит много машин – значит, все дома. Внутри. Въезжаем на изогнутую углом стоянку и резко разворачиваемся, чтобы без помех выехать обратно, когда соберемся. Одинокая пожилая личность в широкополой шляпе наблюдает, как мы ставим мотоциклы на подпорки, снимаем шлемы и очки.
– Не жарко? – спрашивает он. На его лице ничего не написано.
Джон качает головой:
– Бож-же!
Лицо под шляпой вроде как щерится.
– А сколько сегодня? – спрашивает Джон.
– Сто два, – отвечает тот, – когда смотрел последний раз. Должно до ста четырех дойти.
Спрашивает, сколько мы проехали, сообщаем, и он как-то одобрительно кивает:
– Много.
Потом заводит речь про машины.
Нас манят пиво и кондиционер, но пожилую личность мы не обламываем. Стоим на стодвухградусной жаре и с ним беседуем. Старик – скотовод, на пенсии, говорит, что в округе много пастбищ, а много лет назад у него был мотоцикл марки «хендерсон». Мне нравится, что ему обязательно хочется рассказать про этот «хендерсон» в стодвухградусном пекле. Еще немного с ним беседуем, нетерпение Джона, Сильвии и Криса растет, а когда наконец прощаемся, старик говорит, что рад был познакомиться, и хотя лицо его по-прежнему ничего не выражает, ясно, что он сказал правду. Уходит прочь с неким медлительным достоинством в эту стодвухградусную жару.
В ресторане пытаюсь что-то про него сказать, но никому не интересно. Джон и Сильвия, похоже, совсем ошалели. Просто сидят и впитывают кондиционированный воздух, вообще не шевелятся. Подходит официантка, и они чуточку встряхиваются, но заказывать не готовы, и она опять уходит.
– По-моему, я не хочу никуда отсюда уезжать, – произносит Сильвия.
Перед глазами снова встает человек в широкополой шляпе. Я говорю:
– Подумайте, каково здесь было до кондиционеров.
– Я об этом и думаю, – отвечает она.
– По таким раскаленным дорогам с лысой резиной на заднем колесе больше шестидесяти нельзя.
Никакой реакции.
А вот с Криса, похоже, как с гуся вода: он начеку и за всем наблюдает. Приносят еду, он сметает все и, не успеваем мы осилить и половины, просит добавки. Ему приносят, и теперь ждем, пока доест он.
Много миль спустя жара такая же зверская. Ярко так, что ни мотоциклетные, ни темные очки не спасают. Тут нужен щиток сварщика.
Высокие равнины ломаются на линялые, изрезанные холмы. На всем – яркий белесый налет. Ни травинки. Лишь стебли сорняков кое-где, камни, песок. На черную дорогу смотришь с облегчением, и я не свожу с нее глаз – она мелькает под ногой. Рядом левый выхлоп: труба аж поголубела, такого оттенка раньше не было. Плюю на кончики пальцев в перчатке, трогаю – слюна шипит. Нехорошо.
Теперь важно просто сжиться с этим, а не мысленно сражаться… контроль разумом…
Пора поговорить о ноже Федра. Может, станет понятнее то, о чем было выше.
Каждый применяет этот нож, делит мир на части и строит такое здание. Мы все время сознаем миллионы вещей вокруг: эти летящие силуэты, эти пылающие холмы, звук двигателя, полный газ, каждый камешек, сорняк, столб забора и куча мусора у дороги – мы сознаем все это, но не очень-то осознанно, если не замечаем ничего необычного или если все это не отражает того, что мы уже предрасположены в нем увидеть. Невозможно ко всему относиться осознанно и все запоминать, потому что иначе ум так переполнится бесполезными деталями, что мы просто не сможем мыслить. Из этого сознавания мы обязаны выбирать, и нами выбранное уже называется осознанием – оно никогда не равно сознаванию, поскольку в процессе выбора мутирует. Зачерпываем горсть песка из бескрайнего ландшафта сознавания и называем эту горсть песка миром.
Как только нам достается эта горсть песка – мир, который мы осознаем, – ее начинает обрабатывать разделение. Это и есть нож. Мы делим песок на части. Это и то. Здесь и там. Черное и белое. Теперь и тогда. Различение – это деление осознанной вселенной на части.
Горсть песка вначале выглядит однородной, но чем дольше мы вглядываемся, тем она разнообразнее. Все песчинки различны. Двух одинаковых нет. Одни схожи так, другие иначе, и мы можем разложить песок на кучки по сходствам и различиям. По оттенкам – по размерам – по форме – по подвидам форм – по степени прозрачности – и так далее, дальше и дальше. Казалось бы, процесс подразделения и классификации где-нибудь подойдет к концу, но он не приходит. Он только длится.
Классическое понимание занимается кучками песка, основанием для их сортировки и взаимоотношениями между ними. Романтическое направлено на горсть песка до начала сортировки. Оба они – правомерные взгляды на мир, хотя друг с другом непримиримы.
А насущно такое мировоззрение, которое не калечило бы ни того, ни другого понимания, а объединяло бы их. Такое единое понимание не станет отрицать ни сортировки песка, ни созерцания нерассортированного. Напротив, такое понимание обратится ко всему бескрайнему пейзажу, из которого взят песок. Как раз это и пытался делать Федр, бедный хирург.
Чтобы это понять, необходимо в самом пейзаже увидеть фигуру, которая раскладывает песок на кучки, понять, что она – часть пейзажа, неотделимая от него и требующая понимания. Видеть пейзаж, не замечая фигуры, – не видеть пейзажа вообще. Отрицать ту ипостась Будды, что анализирует мотоциклы, – вообще не замечать Будду.
Есть такой непреходящий классический вопрос: какая деталь мотоцикла, какая крупица песка в какой кучке и есть Будда? Очевидно, что задавать такой вопрос – значит смотреть не туда, ибо Будда – везде. Но столь же очевидно, что задавать такой вопрос – значит смотреть именно туда, ибо Будда – везде. Много уже говорилось о том, что Будда существует независимо от любой аналитической мысли; некоторые решили бы, даже слишком много, им сомнительны попытки что-либо к этому добавить. Но практически ничего не говорилось о том, что Будда существует в само́й аналитической мысли и задает ей направление; умолчанию этому есть свои исторические причины. Однако история длится дальше, и, наверное, не будет вреда – а может, будет и позитивное добро, – если прибавить к нашему историческому наследию чуток разговоров в этой дискурсивной сфере.
Когда аналитическая мысль – нож – применяется к опыту, что-то обязательно умерщвляется. Это всем относительно ясно – по крайней мере в искусствах. Вспомним Марка Твена: едва он овладел аналитическим знанием, необходимым для проводки судов по Миссисипи, река утратила свое очарование. Что-то всегда гибнет. Но гораздо меньше в искусствах заметно другое: нечто еще и всегда создается. Не стоит зацикливаться на смерти – гораздо важнее видеть рождение и рассматривать всю непрерывность жизни-смерти, которая ни хороша, ни плоха – она просто есть.
Проезжаем городок под названием Мармарт, но Джон не останавливается даже на перекур, и мы едем дальше. Опять жара, как в печке, какие-то изрытые пустоши – и вот уже пересекаем границу Монтаны. Об этом гласит щит у дороги.
Сильвия машет руками, и я в ответ жму на клаксон, однако на щит гляжу без радости. Надпись вдруг напрягает меня внутри – с Сазерлендами такого быть не может. Откуда им знать, что мы сейчас там, где жил он.
Пока вся эта болтовня о классическом и романтическом понимании в описании самого Федра наверняка похожа на некий странный объезд, но к сути ведет лишь этот окольный путь. Описывать физическую внешность Федра или его биографические данные – скользить поверх, это заведет нас не туда. Идти же к нему напрямик – только навлечь беду.
Он был безумен. А когда смотришь на безумца прямо, видишь лишь отражение собственного знания того, что он безумен; человека не видишь вообще. Чтобы его увидеть, надо видеть то, что видел он, а в охоте на видение безумца самое действенное – объезд. Иначе дорогу перекрывают твои собственные мнения. К Федру есть только один проход, и нам еще ехать и ехать.
Я погрузился во все эти анализы, определения и иерархии не просто так, а чтобы заложить фундамент понимания того, куда шел Федр.
Тогда ночью я сказал Крису, что Федр всю жизнь гнался за призраком. Так оно и было. Призрак, за которым он гнался, – внутренний призрак всей техники, всей современной науки, всего западного мышления. Призрак самой рациональности. Я сказал Крису, что когда Федр его нашел – хорошенько отдубасил. Говоря фигурально, это правда. Федр при этом нечто приоткрыл, и я надеюсь извлечь это на свет, пока мы едем. Теперь такие времена, что, может, еще кому пригодится. А тогда никто не желал замечать призрака, за которым гнался Федр, но сейчас, мне кажется, его видит все больше и больше народу, либо же он мелькает в скверные моменты. Этот призрак называет себя рациональностью, однако снаружи он бессвязен и бессмыслен, и даже самые нормальные повседневные поступки выглядят чуточку ненормальными, поскольку ни с чем не соразмерны. Это призрак нормальных повседневных допущений – он объявляет, что конечная цель жизни, оставаться живым, недостижима, однако не перестает быть конечной целью жизни. Великие умы сражаются с болезнями, чтобы люди жили дольше, и только безумцы спрашивают: на фига? Дольше живут для того, чтобы жить дольше. Другой цели нет. Так говорит призрак.
* * *В Бейкере останавливаемся, термометры показывают 108 в тени. Снимаю перчатки – бензобак так раскален, что не дотронуться. Двигатель зловеще потрескивает от перегрева. Очень плохо. Задняя шина тоже сильно стерлась, и я, приложив ладонь, чувствую, что она горячая, как бензобак.
– Придется ехать медленнее, – говорю я.
– Что?
– Думаю, не следует выжимать больше пятидесяти.
Джон смотрит на Сильвию, а та на него. Между собой они уже явно обсудили мою медлительность. Похоже, еще немного – и с обоих хватит.
– Побыстрей бы доехать, – высказывается Джон, и они идут к ресторану.
Цепь тоже раскалилась и пересохла. В правой седельной сумке нашариваю баллончик со смазкой, завожу двигатель и брызгаю на движущуюся цепь. Она еще не остыла, и раствор испаряется почти мгновенно. Выпускаю струйку масла, пусть двигатель немного поработает, затем выключаю. Крис терпеливо ждет, а потом идет за мной в ресторан.
– По-моему, ты говорил, что большой упадок наступит на второй день, – говорит Сильвия, когда мы подходим к кабинке, где они с Джоном уже расположились.
– На второй или на третий, – отвечаю я.
– Или на четвертый и пятый?
– Может быть.
Они с Джоном снова переглядываются с тем же видом. Кажется, это значит: «Третий лишний». Может, хотят поехать быстрее и дождаться меня в каком-нибудь городке впереди. Сам бы предложил, но если они поедут сильно быстрее, ждать меня в городке им не придется. Ждать меня они будут в кювете.
– Не знаю, как местные это терпят, – говорит Сильвия.
– Здесь трудно, знаешь ли, – отвечаю я с некоторым раздражением. – Они знают, что здесь трудно, еще не приехав сюда, и они к этому готовы… Если кто-то жалуется, – прибавляю я, – остальным становится еще труднее. У них есть стойкость. Они умеют не останавливаться.
Джон и Сильвия не очень разговорчивы; Джон быстро допивает кока-колу и отходит к бару за рюмашкой. Выхожу и снова проверяю багаж: при последней упаковке вещи немного ужались, и я выбираю слабину и все перевязываю снова.
Крис показывает нам термометр на солнце, и мы видим, что столбик зашел далеко – за 120.
Еще не выехали из города, а я уже опять взмок. На ветру высыхаю меньше чем за полминуты.
Жара припечатывает. Даже в темных очках надо щуриться. Вокруг лишь пылающий песок и бледное небо – такое яркое, что трудно смотреть. Все раскалилось добела. Преисподняя.
Джон разгоняется впереди все быстрее. Ладно, черт с ним – я сбрасываю скорость до 55. Если не хочешь в такую жару неприятностей, не станешь терзать покрышки на 85. Лопнет на таком участке шина – и кранты.
Видать, они решили, что я дал им отповедь, но я и не собирался. Мне в такую жару ничем не лучше, но залипать не имеет смысла. Весь день, пока я вспоминал и говорил о Федре, они, должно быть, думали о том, как все плохо. Вот что их изнашивает. Мысль.
О Федре как личности тоже есть что сказать.
Знаток логики, классической «системы систем», описывающей правила и процедуры систематического мышления, которым структурируется и взаимоувязывается аналитическое знание. Федр был в этом так спор, что его коэффициент интеллекта Стэнфорда – Бине – по сути, запись навыков аналитической манипуляции – доходил до 170, а такой показатель встречается у одного из пятидесяти тысяч.
Федр был систематичен, но утверждать, будто он думал и действовал, как машина, – это неверно понимать природу его мысли. Не поршни, колеса и шестерни, что движутся одновременно, массивно и согласованно. Скорее – лазерный луч, одинокая игла света столь ужасающей энергии и столь концентрированный, что направишь его на Луну – и он отразится на Землю. Своей яркостью Федр не пытался ничего освещать. Он выискивал конкретную далекую мишень, целился в нее и попадал. Все. Освещать эту пораженную мишень досталось мне.
Одинок он был так же, как и умен. Нет данных о том, что у него были близкие друзья. Он путешествовал один. Всегда. Даже в обществе он был совершенно один. Иногда люди это чувствовали, их это отталкивало, и они Федра не любили, однако их неприязнь была ему безразлична.
Больше всего, пожалуй, страдали жена и семья. Жена утверждает, что, если кто-то пытался проникнуть за барьеры его сдержанности, им открывалась пустота. По-моему, они тянулись к теплу, но он никогда не грел.
Никто его по-настоящему не знал. Очевидно, этого он и добивался, и ему удалось. Возможно, интеллект и породил одиночество. Или оно породило интеллект. Но они всегда шли бок о бок. Жуткая одинокая разумность.
Эти рассуждения тоже ни к чему не приводят: и они, и образ лазерного луча создают впечатление, будто Федр был абсолютно холоден и бесстрастен, а это не так. В погоне за тем, что я назвал призраком рациональности, он был фанатиком.
Сейчас особенно ярко всплывает один случай в горах: солнце уже полчаса как скрылось за вершиной, и в ранних сумерках деревья и даже скалы стали почти зачерненными тенями синего, серого и бурого. Федр сидел здесь без еды уже три дня. Еда закончилась, но он так глубоко задумался, у него начались такие видения, что уходить не хотелось. Дорога недалеко, он про нее знал и потому не спешил.
По тропе спускались сумерки, и он заметил какое-то движение – вроде собака подходит, крупная овчарка, но вероятнее – лайка. Что делать собаке в такой глуши в такой поздний час? Собак Федр не любил, но животное подходило так, словно предвидело его нелюбовь. Казалось, пес наблюдает за ним, оценивает. Федр долго и пристально смотрел ему в глаза – и вдруг вроде бы что-то в нем признал. А потом пес исчез.
Много позже Федр понял: то был лесной волк – и долго еще помнил об этой встрече. Думаю, потому, что увидел свое подобие.
Фотография являет физический образ, в котором время статично, а зеркало – физический образ, в котором время динамично, но, мне кажется, на горе Федр увидел совершенно иное: тот образ не был физическим и вовсе не существовал во времени. И однако это был образ – потому-то Федр и поймал себя на узнавании. Я все это помню так живо до сих пор, потому что опять видел этот образ вчера ночью – как лик самого Федра.
Подобно тому лесному волку на горе, в Федре была некая животная отвага. Федр шел своим путем, не заботясь о последствиях, – это его наплевательство тогда часто ошеломляло людей, а рассказы о нем ошеломляют меня и сейчас. Он нечасто отклонялся влево или вправо. До этого я докопался. Но отвага его происходила вовсе не из идеалистического самопожертвования, а лишь из упорства его погони, и в этой отваге не было ничего благородного.
Думаю, он охотился за призраком рациональности потому, что хотел ему отомстить, – чувствовал, что это призрак его таким и сделал. Хотел освободиться от собственного образа. Хотел его уничтожить, поскольку призрак был тем, чем был он сам, а ему хотелось освободиться от уз собственной личности. Хоть и странным манером, этой свободы он добился.
Кажется, наверное, что эти воспоминания «не от мира сего», но самая запредельная их часть нам еще предстоит. Мои отношения с Федром. Раньше я их отодвигал и затемнял, однако рассказать нужно.
Я впервые обнаружил Федра много лет назад путем умозаключений из одной странной цепи событий. Как-то в пятницу я отправился на работу, перед выходными сделал довольно много, обрадовался и поехал на вечеринку, где разговаривал со всеми слишком долго и громко, а выпил гораздо больше, чем следовало. Потом ушел в заднюю комнату ненадолго прилечь.
Проснувшись, я увидел, что проспал всю ночь, потому что уже рассвело, и подумал: «Господи, я даже не знаю, как зовут хозяев». Неловко ведь будет. Комната не походила на ту, где я прилег, но когда я заходил, было темно, а я к тому же нализался до помутнения рассудка.
Я встал и увидел, что на мне другая одежда. Не та, что вечером. Я вышел за дверь, но, к моему удивлению, снаружи оказались не комнаты, а длинный коридор.
Я шел по нему, и, по-моему, все на меня смотрели. Трижды незнакомые люди останавливали меня и спрашивали, как я себя чувствую. Полагая, что они имеют в виду мое вчерашнее состояние, я отвечал, что у меня даже нет похмелья. Один на это расхохотался было, но осекся.
В конце коридора я увидел стол, и вокруг него что-то происходило. Я сел поблизости, надеясь, что меня не заметят, а я тем временем разберусь, что к чему. Но подошла женщина в белом и спросила, знаю ли я, как ее зовут. Я прочел имя на большом значке, прицепленном к блузке. Женщина не заметила, как я читал, поразилась и поспешно отошла.
Вернулась она с мужчиной, и тот уставился на меня. Подсел и спросил, знаю ли я, как зовут его. Я ответил и сам удивился не меньше их.
– Для такого еще очень рано, – сказал он.
– Похоже на больницу, – сказал я.
Те кивнули.
– Как я сюда попал? – спросил я, думая о пьяной вечеринке. Мужчина не ответил, а женщина опустила взгляд. Почти ничего и не объяснили.
Больше недели я размышлял, наблюдал и в итоге сделал вывод: до моего пробуждения все было сном, а после – реальностью. Никаких различий меж ними нет, только громоздилось все больше новых событий, говоривших, казалось, против того пьяного происшествия. Всякие мелочи, например запертая дверь, а я, насколько помню, никогда не видел, что снаружи. И бумажка из наследственного суда, где утверждалось, что такой-то признан невменяемым. Это они про меня?
Наконец мне объяснили: «Теперь у вас новая личность». Но и это ничего не объясняло. Лишь сильнее озадачивало, поскольку никакой «старой» личности я за собой не помнил. Скажи они: «Вы теперь другая личность», – стало б гораздо понятнее. Все вернулось бы на свои места. Они ошиблись, полагая, будто личностью можно владеть, как костюмом. Но что в человеке вообще есть, кроме личности? Немного костей и мяса. Быть может, набор юридических данных, но это, конечно, не человек. Кости, мясо и юридические данные – одежды личности, не наоборот.
Но кем была та старая личность, которую они знали и чьим продолжением считали меня?
Таков был первый намек на то, что много лет назад был какой-то Федр. Шли дни, недели и годы, и я узнавал о нем больше.
Он умер. Его уничтожили по распоряжению суда – пропустили переменный ток высокого напряжения через доли его головного мозга. Сила тока около 800 миллиампер, продолжительность от 0,5 до 1,5 секунды – и так 28 раз, что составило процесс, технически известный как «электрошоковая терапия». Личность без остатка ликвидировали технически безупречным действием, и с тех пор начались наши с Федром отношения. Лично я его никогда не встречал. И никогда не встречу.
Но все же странные пряди его памяти вдруг накладываются на эту дорогу и совпадают с ней – и со скалами в пустыне, и с добела раскаленным песком вокруг; происходит некое чудно́е слияние, и я знаю, что он все это видел. Он здесь был, иначе я бы этого не знал. Точно был. Наблюдая внезапные сращения взгляда, вспоминая странные обрывки мыслей, невесть откуда взявшихся, я похож на ясновидца, на медиума, что принимает послания из мира иного. Вот как оно все. Смотрю и собственными глазами – и его. Когда-то мои глаза принадлежали ему.
Эти ГЛАЗА! Вот в чем весь ужас. Руки в перчатках, на которые я сейчас смотрю, – они ведут мотоцикл по дороге, – когда-то были его руками! Понимаешь это – поймешь и подлинный страх. Страшно знать, что бежать некуда.
Въезжаем в неглубокое ущелье. Немного спустя возникает придорожная стоянка – я ее ждал. Пара скамеек, домик, зеленые деревца со шлангами, подведенными к основаниям стволов. Джон – господи ты боже мой – уже у другого выхода, готов ехать дальше.
Не обращаю внимания и останавливаюсь у домика. Крис спрыгивает, ставим машину на подпорку. От двигателя такой жар, будто загорелся, и тепловые волны искажают все вокруг. Краем глаза вижу, что второй мотоцикл возвращается. Подъезжая, оба яростно смотрят на меня. Сильвия говорит: