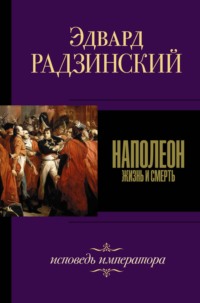
Наполеон
Я распоряжался ходом казни – хлопот было много. Один из помощников держал веревку блока и по моему знаку опускал лезвие гильотины. Доска была залита кровью (все-таки два десятка человек!), и ложиться на нее было отвратительно.
Я приказал помощникам взять по ведру воды и отмывать ее после каждой жертвы… Мне понадобилось сорок минут, чтобы Республика лишилась своих основателей. Трупы укладывались в ящики попарно.
Помню, Верньо был предпоследним. И этот Верньо, еще недавно председательствовавший в Национальном собрании, насмешливо сказал секретарю Трибунала Напье, вызывавшему осужденных на эшафот:
– Революция, как Сатурн, пожирает своих детей! Берегитесь, боги жаждут!
На другой день после казни жирондистов Фукье-Тенвиль грубо спросил меня, почему я избегаю сам дергать за веревку, приводящую в движение лезвие гильотины. (Напье, конечно, донес!)
Я ответил (так же резко), что времена, когда рубили мечом, прошли и теперь самое важное для палача – распоряжаться порядком на эшафоте. При таком обилии жертв это нелегко, поэтому я прошу оставить за мною право все самому решать на моем эшафоте!
Террор становится нашим бытом. Теперь что ни день – новая знаменитая жертва.
Вчера я казнил герцога Луи Филиппа Жозефа Орлеанского. Принц крови, всем сердцем принявший Революцию, именовался «Гражданин Эгалите»[1]. (Это прозвище, данное ему благодарным народом, и стало его именем. И дворец его называли теперь «Пале-Эгалите».)
Еще недавно он подал голос за смерть короля, еще недавно он сражался вместе с Робеспьером против жирондистов! Но сейчас он уже компрометировал бывших союзников, и они поспешили от него избавиться, обвинив его… в сотрудничестве с его главными врагами – жирондистами!
Герцог даже воскликнул после речи Фукье-Тенвиля:
– Все это, право, похоже на шутку!
Но шутка закончилась смертным приговором. Герцог все понял и попросил не затягивать казнь. Его просьбу исполнили – уже днем я пришел с моими ножницами стричь еще одну царственную голову.
Герцог с аппетитом уплетал устрицы и цыпленка – он сохранил присутствие духа.
Вместе с ним осудили еще нескольких особ из бывших аристократов (принадлежность к дворянству теперь почти автоматически равняется смертному приговору). Один из них был граф Ларок. Когда я направился к нему с ножницами, он расхохотался и снял парик с абсолютно лысой головы…
Около четырех часов дня наш поезд из нескольких телег выехал из ворот Консьержери. Герцог, естественно, был в моей телеге.
Начальник конвоя по приказу Робеспьера велел остановить телегу у дворца герцога. Там уже поспешили повесить вывеску: «Народная собственность»… Герцог с презрением отвернулся.
Он взошел на эшафот последним – и толпа, еще три года назад носившая его бюст, увенчанный лавровым венком, свистела и неистово проклинала его (впрочем, как и сотоварищи по телеге во время пути на гильотину – все они были верными роялистами).
Мой помощник снял с него фрак. Герцог насмешливо посмотрел на свистящую толпу и спокойно лег на залитую кровью доску.
Когда я показал людям его голову, они стали неистово рукоплескать и петь! (Пройдет несколько десятков лет, и их сыновья возложат корону на голову сына Гражданина Эгалите. – Э.Р.)
Не забываем и дам. Вчера вместе с несколькими роялистами (теперь обычно казним целыми партиями) гильотинировали знаменитую госпожу Ролан – хозяйку салона, где собирались жирондисты. Выслушав смертный приговор, она сказала с улыбкой:
– Благодарю судей за то, что они сочли меня достойной разделить участь замученных ими великих людей…
Статуя Свободы, воздвигнутая на площади Революции, стояла как раз напротив моего эшафота. Поднимаясь по лестнице, госпожа Ролан склонила голову перед статуей и воскликнула:
– Свобода, они забрызгали тебя кровью!
Это звучало бы слишком патетично, если бы не было правдой: я действительно видел на статуе брызги крови…
Смерть госпожа Ролан приняла бесстрашно. Под счастливые аплодисменты толпы я поднял ее голову за остатки роскошных волос.
На следующий день я отправился на площадь Революции с двумя телегами. Но на этот раз (редчайший случай!) со мной не было знаменитостей, которым следовало оказывать честь – предоставлять отдельную телегу. Так что всех девятерых осужденных я отлично разместил в этих двух телегах. Среди них были мать с сыном. И мать всю дорогу доказывала мне, что Республика должна удовлетвориться одной ее головой.
– Ведь они его непременно помилуют, не правда ли? – все спрашивала она меня и обнимала сына.
Ему было двадцать три года…
Казнен известный депутат Конвента жирондист Ноэль. Ступив на эшафот, он поинтересовался:
– Хорошо ли вытерли нож гильотины после казни Дюбарри? Негоже мешать кровь продажной королевской девки с кровью честного республиканца!
Я заверил его, что нож чистый.
Сегодня казнены пятеро публичных женщин, и множество других «веселых особ» ждут своего часа в Консьержери. Таково новое предписание Генерального прокурора Парижской Коммуны Шометта. Теперь считается, что, портя нравы, они помогают врагам Республики. Решено очистить наши нравы при помощи гильотины.
Недавно в Конвенте я встретил одного депутата-журналиста (кажется, его звали Дюфруа). Увидев меня, он обратился к друзьям, шедшим рядом с ним:
– Вот самый полезный деятель Республики! Как он бреет аристократов своим славным ножом! Тебе приходится много трудиться, друг Сансон! Но ничего: если у тебя много работы – дела Республики идут на лад!
Всего через два месяца после этой встречи мне пришлось потрудиться и над его головой.
Все чаще казним генералов. В Конвенте не хотят понять, что и революционные солдаты могут терпеть поражения, поэтому наши неудачи решили объяснять изменой военачальников.
Сегодня я казнил одного из самых храбрых наших генералов – Бирона. Когда я пришел в Консьержери, я застал его кушающим устрицы.
– Позволишь ли доесть эту последнюю дюжину? – спросил он меня.
– Не торопитесь, генерал.
Я подождал, пока он доел, и тогда сказал:
– К вашим услугам, генерал. И вынул ножницы.
– О нет, братец, к сожалению, сегодня – я к твоим услугам! – ответил он. И расхохотался.
Забавно: в прежние времена одно мое появление в тюрьме вызывало ужас. Теперь оно все чаще вызывает улыбку, даже шутки! Смерть стала слишком обычной… Никогда на моей памяти равнодушие к жизни не доходило до такого: осужденные едят, пьют, сочиняют куплеты – и все это накануне смерти!
Сразу после Бирона я казнил некоего Луи Робена, который приклеил к стене церкви следующую прокламацию: «Предшествующее десятилетие ознаменовалось смертью Людовика, прозванного «тираном» нашими революционерами. Наступающее десятилетие породит сотни будущих тиранов. Долой революционные клубы! Истинный народ никогда не откажется от веры в Бога!»
В телеге, где ехали восемь осужденных, он мне сказал:
– Бог, позволивший тебе казнить короля, возложил на тебя обязанность казнить и всех похитителей его власти. И только потом Он покарает и тебя самого…
Я это запомнил.
Казни каждый день. Много казней.
Сегодня я обезглавил графа де Лэгль, а вместе с ним Агнессу Розалию Ларошфуко и еще двенадцать знатнейших «бывших», обвиненных в заговоре…
На следующем заседании Трибунала было вынесено восемнадцать приговоров. Я вез осужденных под проливным дождем, набив их в четыре телеги. Больше телег не дали. Толпа, которую величают народом, осталась довольна количеством жертв – не зря она мокла под проливным дождем!
Были арестованы «бешеные» – неистовые революционеры из городской Коммуны. За то, что они непримиримые и оттого хотели увести Революцию с ее истинного пути, который известен одному Робеспьеру.
Понадобилось множество телег, когда большая компания «бешеных» отправилась на гильотину.
Фукье-Тенвиль, не моргнув глазом, обвинил своих бывших сподвижников и друзей – прокурора Шометта, его заместителя Эбера и прочих революционеров – в измене и заговоре.
Во время заседания Трибунала один из самых яростных, помешанный на крови Анахарсис Клоотц сказал:
– Будет очень странно, если меня, которого сожгли бы в Риме, повесили бы в Лондоне и колесовали бы в Вене – гильотинируют в республиканском Париже!
Но все случилось именно так. При сем его вчерашний почитатель Фукье-Тенвиль обвинил Клоотца, этого ненавистника короля, в тайных стремлениях… к восстановлению королевской власти!
Вместе с Клоотцем сел в мою телегу и другой «бешеный» – Эбер, помощник и друг прокурора Шометта. Еще недавно на процессе королевы он произнес наглое лжесвидетельство – это он придумал обвинить бедную королеву в разврате с ее собственным сыном.
По дороге на гильотину толпа, еще вчера им рукоплескавшая, щедро осыпала их проклятьями.
Эбер на гильотине (как и положено трусливым злодеям) совсем ослабел, был малодушен и все молил: «Подождите, граждане!»
И тогда Клоотц с криком: «Да здравствует Всемирная Республика! Да здравствует братство народов!» – бросился на кровавую доску. Он показался мне искренним безумцем, которого следовало отдать врачам, а не гильотине.
Эбера (он был без чувств от страха) мы привязали к доске, и старушка гильотина сделала свое дело.
И толпа, радостно наблюдавшая казнь неистовых республиканцев, неистово кричала:
– Да здравствует Республика!
Но самое невероятное произошло 11 жерминаля. Утром Дантон, Камилл Демулен и их товарищи были арестованы на своих квартирах – и народ безмолвствовал!
Говорят, Дантон, отважившийся бороться с Робеспьером, был уверен: его не посмеют тронуть!
Робеспьер посмел.
Он верит в себя. Марат стал святым после смерти – Робеспьер сумел сделать себя святым при жизни. Жена моего помощника Деморе повесила его портрет вместо иконы в изголовье своей постели. И таких немало. Полоумная старуха, некая Екатерина Тео, назвала себя «Богородицей», а Робеспьера – своим сыном!
Впрочем, еще совсем недавно республиканцы так же молились на Дантона…
Дантон сдался жандармам без сопротивления, Демулен же звал из окон народ на помощь. Но никто не пришел. Люди уже привыкли проклинать тех, кого вчера славили. И отвыкли удивляться.
Они не удивляются, что все вчерашние кумиры Республики – Бриссо, Мирабо, Лафайет, Верньо – объявлены предателями интересов народа. Все эти люди, оказывается, сделали Революцию только для того, чтобы ее погубить! Но и те, кто изобличил их в предательстве, – Шометт, Дантон и прочие – тоже оказались предателями! Предают справа и слева! Предают умеренные и непримиримые!
Теперь остался один Робеспьер. Один – из всей троицы, которую я привык видеть у окна на улице Сент-Оноре.
Я читал сегодня письмо, которое несчастный Демулен отправил жене (и которое, естественно, ей не передали):
«Я залился слезами, я стал громко рыдать в глубине темницы… Пусть так жестоко поступали бы со мной враги… но мои товарищи… но Робеспьер… и, наконец, сама Республика, после всего, что я для нее сделал!.. Руки мои обнимают тебя, и голова моя, отделенная от туловища, покоится на твоей груди… я умираю».
Я присутствовал на заседании Революционного Трибунала.
Фукье-Тенвиль в длинной и монотонной (как обычно) речи потребовал их смерти. И Трибунал, конечно, их приговорил – и Демулена, и Дантона, и их сторонников.
Дантон сказал, усмехаясь:
– Я основал этот Революционный Трибунал и прошу за это прощения у Бога и людей.
Когда я пришел в Консьержери, жандарм хлопнул меня по плечу и сказал:
– Сегодня у тебя крупная пожива – много осужденных! Начальник караула пояснил мне:
– Очень вероятно, что по пути на гильотину осужденным удастся возмутить народ. Тогда тебе следует пустить лошадей рысью. Жандармам уже дан приказ – стрелять в случае беспорядков. На площади все должно быть исполнено тобой как можно быстрее. Надо спасти Республику от этих злодеев!
Начали поодиночке приводить «злодеев» (вчерашних кумиров Республики), читать им приговор. После чего я готовил их к смерти.
Когда привели Дантона, он не захотел слушать тюремщиков. Он прорычал:
– Знать не хочу вашего приговора! Нас рассудят потомки – и они поместят нас в Пантеон!
И равнодушно обратился ко мне:
– Делай свое дело, Сансон!
Я сам подстриг его перед смертью. Никогда не забыть мне его волосы – жесткие и курчавые, как щетина диковинного зверя… При мне он сказал своим друзьям:
– Это начало конца… Будут казнить народных представителей – кучами. Франция задохнется в потоках крови…
Будто раньше не казнили! И кучами! И с его благословения! Помолчав, он добавил:
– Мы сделали свое дело – можно идти спать.
Когда привели Демулена, он сначала плакал и говорил о жене, потом бросился на моих помощников и стал их бить (в эти предсмертные минуты человек обычно становится необыкновенно силен). Четверо держали его, пока я резал волосы. А он все сражался с ними!
И тогда Дантон повелительно сказал ему:
– Оставь этих людей. Они – лишь служители и исполняют свой долг. Исполни свой долг и ты.
Наконец все было готово. Рассаживались по телегам. Конвой был столь же многочисленный, как и у королевы. Я сел на облучок своей телеги. За мной в первом ряду стояли Дантон и Демулен – так что я слышал их разговоры.
Когда двинулись в путь, Дантон сказал Камиллу:
– Это дурачье сейчас будет кричать: «Да здравствует Республика!» А сегодня у этой Республики уже не будет головы!
Когда мы выехали на бульвар, Демулен стал кричать народу:
– Разве вы не узнаете меня?! – Он старался высунуться из повозки. – Перед моим голосом пала Бастилия! С вами говорю я – первый проповедник Свободы! Ее статуя сейчас обагрится кровью! Ко мне, мой народ! Не допусти, чтобы умертвили твоих защитников!
Ему отвечали хохотом и ругательствами. Он пришел в ожесточение, и я боялся, что он выбросится из телеги. Дантон сказал ему:
– Замолчи! Неужели ты надеешься растрогать эту покорную сволочь?!
Проезжая мимо кофейной, мы увидели живописца Давида – он рисовал всю нашу процессию.
– И ты здесь, лакей! – прорычал Дантон. – Пойди и покажи свой рисунок своему господину! Пусть он увидит, как умирают воины Свободы!
Мы проезжали мимо дома Робеспьера. Окно, где они так часто стояли вместе, было закрыто. И даже ставни были закрыты. И тогда раздался громовой голос Дантона:
– Робеспьер, ты напрасно прячешься там, за ставнями! Знай: скоро и ты пойдешь за мной! Скоро, очень скоро придет твой черед! И тень Дантона тогда возрадуется!
Все это он сопровождал отборной руганью.
На эшафоте они держались молодцами. Демулен попросил меня передать его локон матери его жены. Потом он взглянул на небо, произнес несколько раз имя жены – и нож опустился!
Его еще не успели очистить от крови предыдущей жертвы, когда Дантон поднялся на эшафот. Я попросил его отвернуться, пока помощники смывают кровь, но он сказал с презрением:
– Велика важность – кровь на твоей машинке… Не забудь показать мою голову народу! Такие головы увидишь не каждый день!
На обратном пути я думал: «Как забавно! Скольких людей перевезла моя тележка! В ней уместилась, пожалуй, вся, без исключения, история Революции. Остался лишь – он. Один!»
Робеспьер.
Кресло для обвиняемого давно вынесено из Трибунала. Вместо него установлен огромный помост, где обвиняемых размещают партиями по нескольку десятков человек. Как правило, им ставят в вину участие в заговорах. Фукье-Тенвиль научился «объединять» в этих делах людей, зачастую видящих друг друга в первый раз на заседании Трибунала.
Полуграмотные присяжные, освобожденные решением Конвента от всяких норм судопроизводства, теперь в одно мгновение определяли виновность людей. Им было приказано руководствоваться только патриотическим чувством.
Бесконечная череда обвиняемых… Обвинитель, присяжные, судьи, измученные постоянным недосыпанием, работают не покладая рук, подстегиваемые яростью ненавистников, толпящихся на галереях, в этой ужасной летней духоте, сводящей с ума! Они взбадривают себя алкоголем и патриотическими речами, стараясь превозмочь кровавую дремоту!
Я помню раннее утро… Заседание Трибунала… По обвинению в заговоре вместе с целой группой несчастных осудили бедную Люсиль Демулен. И уже в пять часов пополудни я окончил ее страдания на эшафоте…
В тюрьме ее считали помешанной, ибо ее преследовала одна мысль: побыстрей соединиться там с Камиллом. После них осталась крохотная дочь.
Приговоры идут потоком – 29 жерминаля мы казнили семнадцать человек.
1 флореаля Трибунал осудил во имя Революции тех, кто раньше судил во имя Революции. И я повез на гильотину тех самых судей, чьи декреты исполнял столь долгое время. Двадцать пять членов парижского и провинциальных судов пошли на плаху с президентами во главе!
Утром 19 флореаля мы казнили двадцать восемь человек. Один из них, некто Лавуазье, ученый, попросил отсрочку от казни, чтобы довершить, как он сказал, «открытие, важное для нации». Секретарь Трибунала ответил ему: «Народ не нуждается в твоей науке, и ему нет никакого дела до твоих открытий».
Он был прав – толпа восторженно кричала, когда я показал ей голову ученого.
21 флореаля я присутствовал на заседании, где была осуждена Елизавета – набожная сестра последнего короля. Она выслушала приговор с ласковой улыбкой на устах, обратив глаза к небу, а Фукье-Тенвиль честил ее в самых бранных выражениях! Трибунал под председательством судьи Дюма, конечно, приговорил ее к смерти, как опасную заговорщицу.
В сообщники ей были приписаны еще двадцать три аристократа. Всех их я рассадил по телегам – уже на следующее утро…
Впрочем, скоро и председатель Трибунала Дюма сядет в мою телегу.
Елизавету велели гильотинировать последней. Когда пришла ее очередь подняться на эшафот, она слегка содрогнулась, но пошла сама…
Она приблизилась к доске. Я хотел снять платок, покрывавший ее плечи, но она воскликнула с непередаваемой, чудной стыдливостью:
– О, ради Бога!..
Тюрьмы переполнены. Но уже придумали, как их очистить для новых заключенных. В Консьержери и в прочие тюрьмы внедрены агенты. Они предлагают несчастным, обреченным на смерть, организовывать заговоры – будто бы для освобождения. После чего «заговорщиков» немедленно отправляют на гильотину.
18 прериаля – двадцать один осужденный за заговоры! Итак – каждый день!
С моими помощниками что-то происходит. Нет ни одного, кто оставался бы спокойным после казней. Лишь выпив изрядную порцию водки, они приходят в себя.
20 прериаля. Мой помощник Луве повесился.
Сегодня отвез на гильотину тридцать два человека по обвинению в заговоре. По дороге я уже не слушал их разговоров, все думал, все вспоминал великие лозунги Революции – «Свобода! Равенство! Братство! Или Смерть!».
Свобода, которой, увы, давно нет; Равенство, которое видится теперь лишь во сне; Братство, которое все чаще звучит насмешкой…
Из всех лозунгов Республики не подвергается сомнению только один – Смерть!
Погибшие мечты! Хотя одна мечта все-таки стала реальностью!
С раннего детства я был убежден в правах, которые дает мне мое звание, в своем значении для общества. Я верил, что мне доверена трудная и грозная обязанность, и смотрел на пренебрежение и отвращение к своей работе как на гнусный предрассудок.
Я мечтал об иных временах! И вот они пришли. Теперь мы воистину окружены почетом, и самые знаменитые депутаты считают за честь дружить с палачом! Дело уже идет к тому, чтобы не только запретить называть нас «палачами», но поискать нам славное прозвище, достойное той роли, которую мы играем в жизни Республики! Предлагают даже назвать нас «Мстителями Народа» и одеть в подобающие костюмы. Живописец Давид на днях показал мне рисунок нашего одеяния, напоминающего облачения римских ликторов.
Можно сказать, я вкусил славы! Проезжая по улицам на своем страшном экипаже, я слышу только одобрительные клики народа! И страшные в своей ярости фанатичные революционерки, эти фурии гильотины, устраивают мне овации и считают за честь отдаваться моим помощникам!
25 прериаля. Из-за жалоб жителей улицы Сент-Оноре, которые не могут более сносить ежедневного проезда множества наших телег, решено перенести гильотину на площадь бывшей Бастилии. Однако народ (здесь живут трудолюбивые и бедные люди) вдруг встретил нас свистом и бранью. Впервые на площади собралось ничтожно мало людей – смотреть казнь! Многочисленные агенты, которые теперь повсюду, были очень сконфужены. И уже ночью мне велели переставить эшафот на прежнее место.
Неужели толпа наконец устала?! А как устал я! Как смертельно устал я!
27 прериаля. Редчайший день отдыха. Мы гуляли с племянницами за городом и столкнулись с ним. Его сопровождала огромная собака по кличке Браунт.
Дети никак не могли сорвать дикие розы – мешали шипы. И он поспешил к ним на помощь. Он был одет в голубой фрак, желтые брюки и белый жилет. Волосы его были напудрены, а шляпу он держал на конце маленькой трости.
Он сорвал розы, отдал их детям и ласково беседовал с ними, пока не заметил меня…
Я никогда не видел, чтобы так менялось человеческое лицо! Он будто наступил на змею! Его лоб покрылся испариной, улыбка исчезла. Он проговорил отрывистым голосом:
– Вы…
И замолчал. В глазах у него был ужас!
Он поспешно удалился, не глядя на меня. А я все думал, где я уже видел такие же глаза?
Я вспомнил – король! Наше первое свидание!
Да, это было не отвращение к топору, который верно служил тебе, Робеспьер! Это был твой страх. Твой ужас!
Фукье-Тенвиль стал подвержен галлюцинациям. Он рассказал одному из членов Трибунала, что Сена в лучах солнца кажется ему кровавой. Сейчас он готовит очередной «заговор» среди заключенных. На гильотину должны отправиться сто пятьдесят четыре человека.
29 прериаля. У меня был страшный день: гильотина пожрала сто пятьдесят четыре человека! Силы мои истощились, я едва не упал в обморок.. Мне показали карикатуру, которую враги Республики распространяли в городе: на эшафоте среди поля, усеянного бесчисленными обезглавленными трупами, я гильотинирую… самого себя!
Если это поможет остановить кровавое безумие, я готов хоть сейчас отправиться к Господу со своей головой в руках.
Меня мучают видения. Вечером, садясь за стол, я убеждал жену, что на нашей скатерти – кровавые пятна!
Очередной организованный шпиками «заговор» доставил на мой эшафот двадцать четыре жертвы. Среди них достойны упоминания: семидесятилетний барон Трен, герцог Креки, маркиз Монталамбер и еще один молодой человек, про которого мне сказали, что он поэт. Его звали, кажется, Шенье…
9 мессидора я прекратил записи в своем Журнале. После очередной массовой казни (это было 8 мессидора) я слег в постель. Болезнь заставила меня передать должность сыну…
Сколько дней прошло… Я снова вернулся к перу. Я ищу уединения, но оно меня пугает. Я словно жду кого-то… при всяком шуме меня охватывает необъяснимый страх. Я болен страхом…
Должность исполняет мой сын. Несчастный мой мальчик! Ежедневное число жертв теперь никогда не опускается ниже тридцати, а в страшные дни достигает шестидесяти!
Все славные фамилии прежней монархии торопливо занимают свои места на гильотине, но простого народа – солдат, земледельцев, бедняков – несравненно больше!
9—10 термидора. Сын рассказал, что председательствующий в Трибунале судья Дюма готовился отправить в мою телегу очередную партию осужденных, но вошли посланцы Конвента и объявили о его аресте. И уже на следующий день Дюма сам сидел в моей телеге…
Робеспьер, несчастный, уничтоженный, старался перекричать вопли восставшего против него Конвента, но издавал только нечленораздельные звуки.
И кто-то бросил ему:
– Это кровь Дантона душит тебя!
Он успел прокричать сквозь рев бесновавшихся депутатов:
– Разбойники, вы торжествуете!
Разбойники… Он был прав: всех честных республиканцев он давно уже отправил под мой топор.
А потом мой сын повез его в моей телеге мимо его дома на Сент-Оноре, и он смог увидеть все, что видели его жертвы, – набережные, заполненные народом, который привычно кричал: «Да здравствует Республика!» И проклинал его!
И свои окна он тоже увидел – но снизу, из телеги!
Круг замкнулся. Теперь я смогу отдохнуть. Теперь действительно вся история Революции уместилась в моей грязной позорной телеге.
Но страх… невыносимый, непередаваемый страх не покидает меня! Господи, спаси!»
Действие второе
Бомарше
Игры писателей
Из архива Шатобриана
Несколько пунктов из «Манифеста Postrisma»: