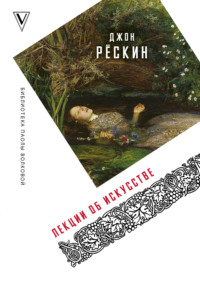
Лекции об искусстве
12. Такой дух явился в наши дни. Он приобретает все новые и новые силы, открывая области, которые он сам специально завоевывает. Он вызвал раскол в критических школах как и следовало предвидеть; теперь он в зените своего могущества и,как следствие этого, в последнем фазисе своей гибнущей популярности.
Я знаю это и могу доказать. Всякий человек, говорит Соути, постигнув какую-нибудь великую истину, не может не почувствовать в себе способности и желания сообщить ее другим. Провозглашая и доказывая первенство этого великого художника, я одновременно сослужу службу делу истинного искусства и получу возможность иллюстрировать некоторые правила пейзажной живописи, которые всюду применяются, но до сих пор не признаны.
Я не рассчитываю произвести что-нибудь вроде непосредственного действия на общественное сознание. «Мы заблуждаемся, говорит Ричард Бакстер, – насчет человеческих болезней, когда думаем, что для излечения их от заблуждений нужно только сделать очевидной истину. Увы! Нужно устранить некоторые изъяны ума, прежде чем представлять им эту очевидность». Тем не менее, представив им ее, я исполню свой долг. Убеждение явится в свое время.
13. Я не считаю нужным обращаться или иметь дело с ординарными критиками прессы. Их статьи не руководители, а только выразители общественного мнения. Человек, пишущий для газеты, естественно, по необходимости старается, насколько он может, идти навстречу чувствам большинства своих читателей. От этого зависит его кусок хлеба. Лишенный по самой природе своих занятий возможности приобретать какие бы то ни было сведения в искусстве, он уверен, что может прослыть сведующим, выражая мнение своих читателей. Он предает посмеянию картину, мимо которой равнодушно проходит публика, и осыпает похвалами те полотна, которые теснящаяся возле них толпа скрывает от него.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Шарль Перро (Perrault, 1628–1703 гг.), известный французский писатель, противник ложноклассического направления в литературе, очень низко ценивший величайших писателей античного мира, вел продолжительную и страстную полемику с Буало, Расином и другими сторонниками классицизма.
2
Этот принцип опасен, но он от того не менее верен, и его необходимо иметь в виду. Едва ли существует хоть одна истина, которая влечет за собой искажения с дурными целями. Мы не можем говорить, что оригинальность нежелательна, только на том основании, что можно ошибиться, отыскивая ее, или по той причине, что подделка под нее может стать прикрытием бездарности. Однако оригинальности никогда не следует искать ради нее самой, иначе она будет просто нелепостью. Она должна возникнуть естественно из тщательного, свободного изучения природы; следует помнить, что некоторых технических сторон нельзя изменять, не понизив их, потому что, как выразился Спенсер, «истина – одна и правильность – всегда одна», но погрешности – разнородны и многочисленны.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов