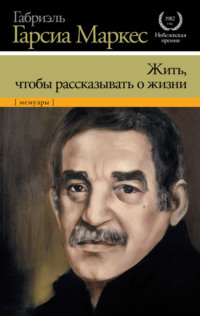
Жить, чтобы рассказывать о жизни
Мне не удалось познакомиться с Меме, служанкой-гуахиро, которую семья привезла из Барранкас и которая однажды ночью в грозу убежала с Алирио, своим братом-подростком, но я всегда слышал, что они оба больше всех вплетали в домашнюю речь родной язык. Ее смешанный кастильский был восторгом поэтов, с того памятного дня, когда она нашла спички, которые потерял дядя Хуан де Дьос, и вернула их с победным выражением на своем жаргоне:
– Я здесь, твоя спичка.
Стоило труда поверить, что бабушка Мина, со своими сбитыми с толку женщинами, была экономической опорой дома, когда появились первые признаки нехватки средств существования. Полковник имел несколько разбросанных участков земли, которые были оккупированы белыми поселенцами, и он отказывался выгонять их. В одном затруднительном положении ему пришлось заложить дом в Катаке, дабы спасти честь одного из сыновей, и стоило целого состояния не потерять этот дом. Когда не было больше ничего, Мина продолжала поддерживать семью творимыми ею зверьками из карамели, которые продавались по всему селению, пестрыми курицами, утиными яйцами, овощами из внутреннего дворика. Она произвела радикальное сокращение обслуги и оставила только необходимых слуг. Наличные деньги перестали иметь смысл в устной традиции дома. До такой степени, что когда понадобилось купить пианино для моей матери по ее возвращении из школы, тетя Па произвела подсчет точно в домашней монете: «Пианино стоит пятьсот яиц».
Среди толпы евангельских женщин дедушка олицетворял для меня несокрушимую надежность. Только с ним исчезала тревога, и я чувствовал себя твердо стоящим на земле обеими ногами и хорошо устроенным в реальной жизни. Удивительно, когда я думаю об этом сейчас, что я хотел быть, как он, реалистом, смелым, надежным, но при этом никогда не мог противиться неистребимому искушению – заглянуть в мир бабушки. Я вспоминаю его толстым и полнокровным, с редкими седыми волосами на блестящем черепе, с очень аккуратной щеткой усов и круглыми очками в золотой оправе. Он говорил размеренно, понимающий и примирительный в мирное время, но его враги-консерваторы запомнили его как грозного врага в военных противостояниях.
Он никогда не носил военной формы, потому как его чин был бунтарский, а не академический, но еще долго после всех войн он носил простую деревенскую рубашку с карманами, как было принято среди карибских ветеранов. С тех пор как был обнародован закон о военных пенсиях, он заполнил необходимые бланки с запросами, чтобы получить свою, и он, а также его жена и самые близкие наследники продолжали ждать ее до самой смерти. Бабушка Транкилина, которая умерла вдали от этого дома, слепая, дряхлая и наполовину безумная, говорила мне в последние моменты просветления: «Я умираю спокойно, потому что вы получите пенсию Николасито».
Тогда я впервые услышал это мифическое слово, которое посеяло в семье росток вечных иллюзий под названием «пенсия». Оно вошло в дом до моего рождения, когда правительство учредило пенсии для ветеранов Тысячедневной войны. Дедушка лично собрал документы, даже с излишком юридических свидетельств и доказательных документов, и сам отвез их в Санта-Марту, чтобы подписать протокол передачи. По самым скромным подсчетам, это была сумма, достаточная для него и его потомков до второго поколения. «Не беспокойтесь, – сказала нам бабушка, – деньги от пенсии достанутся всем». Почтальон, которого никогда не ждали с замиранием сердца в семье, превратился тогда в посланника Божественного Провидения.
Мне самому не удалось избежать этого груза неопределенности, исходившего изнутри. Тем не менее Транкилина иногда не хотела общаться ни с кем, кто носил ее фамилию. Во время Тысячедневной войны дедушка был посажен в тюрьму в Риоаче ее двоюродным братом, который был офицером армии консерваторов. Либеральная родня и она сама восприняли это как военный акт, перед которым мощь семейных связей ничего не стоила. Но когда бабушка узнала, что мужа держали в колодках как уголовного преступника, она накинулась на брата, словно укротительница зверей, и заставила выдать его целым и невредимым.
Мир дедушки был совсем другим. Уже в свои последние годы он казался очень подвижным, когда ходил во все стороны со своим ящиком с инструментами, чтобы чинить неисправности в доме, или когда качал воду для купальни в течение многих часов ручным насосом во внутреннем дворе, или когда взбирался по лестнице, чтобы проверить количество воды в бочках. Но при этом он меня просил завязать шнурки на его ботинках, потому что задыхался, когда пытался сделать это сам. Он чудом остался в живых однажды утром, когда попытался поймать подслеповатого попугая, который взобрался на бочки. Ему удалось схватить его за шею, когда он поскользнулся на настиле и упал на землю с высоты четырех метров. Никто не смог объяснить, как ему удалось выжить со своими девяносто килограммами и в свои пятьдесят с лишним лет.
Это был для меня памятный день, когда врачи обследовали его голым в постели пядь за пядью и спросили, что это за старый шрам в полдюйма, который они нашли у него в паху.
– Это след от военной пули, – сказал дедушка.
Те эмоции живы во мне до сих пор, как и тот день, когда я заглянул с улицы в окно его мастерской и узнал знаменитую шаговую лошадь, которую хотели ему продать, и вдруг понял, что глаза его наполнились водой.
Он постарался прикрыться рукой, и на его ладони остались несколько капель прозрачной жидкости. Он не только потерял правый глаз, но дедушка не позволил бы купить лошадь, населенную бесами. Он носил недолго пиратскую повязку на затуманенной глазной впадине, до тех пор, пока окулист не заменил ее хорошо подобранными очками и прописал ему деревянную трость, которая стала в итоге частью его индивидуальности, как жилетные часы на золотой цепочке, чья крышка открывалась с музыкальным щелчком. Он был всегда известен в обществе тем, что коварство лет, которое начало беспокоить его, совсем не повлияло на его сноровку тайного соблазнителя и хорошего любовника.
Во время ритуального омовения в шесть утра, которое в последние годы он совершал всегда вместе со мной, мы выливали воду из резервуара сосудом из тыквы и в итоге увлажнялись одеколоном «Ланман энд Кемпс», который контрабандисты из Курасао продавали ящиками по домам, вместе с бренди и рубашками из китайского шелка. Как-то раз я слышал от него, что это единственный аромат, которым он пользовался, так как думал, что его используют многие, но перестал так считать, когда кто-то узнал его на чужой подушке. Другая история, которую я слышал на протяжении лет, что однажды вечером, когда погас свет, вылил себе на голову флакон с краской, считая, что это его одеколон.
Для ежедневных домашних дел он всегда носил полотняные штаны с подтяжками, мягкие башмаки и вельветовую кепку с козырьком. Для воскресной мессы, которую он почти никогда не пропускал, разве что по соображениям высшей силы или по каким-то знаменательным датам и памятным дням, он одевался в полный костюм из белого льна с целлулоидным воротничком и черным галстуком. Эти скудные случаи, без сомнения, заслужили для него славу сумасброда и спесивца.
Впечатление, которое у меня осталось по сию пору, – что все, что имелось в доме, существовало для него. Это был образцовый патриархальный брак в матриархальном обществе, в котором мужчина был абсолютным монархом в доме, которым правила его жена. Скажем прямо: он был мачо. То есть мужчина чудесной мягкости в семье, которой он стыдился на публике, пока его жена сжигала себя, чтобы сделать его счастливым.
Бабушка с дедушкой совершили еще одно путешествие в Барранкилью в дни, когда отмечалось столетие смерти Симона Боливара в декабре 1930-го, чтобы присутствовать при рождении моей сестры Аиды Росы, четвертой в семье. Возвращаясь в Катаку, они увезли с собой Марго, которой было немногим больше года, и мои родители остались с Луисом Энрике и новорожденной. Мне стоило труда привыкнуть к перемене, потому что Марго прибыла в дом как существо из другой жизни, хилая и дикая, и с непроницаемым внутренним миром. Когда ее увидела Абигайль, мать Луиса Кармело Корреа, она не поняла, зачем бабушка с дедушкой взяли на себя груз подобных обязательств. «Эта девочка – не жилица», – сказала она. Во всяком случае, то же самое говорили обо мне, потому что я плохо ел, потому что моргал, потому что случаи, которые я рассказывал, казались им такими чудовищными, что они верили лжи, не думая, что большая часть была точно по-другому. Только годы спустя я узнал, что доктор Барбоса был единственным, кто защищал меня с мудрым аргументом: «Ложь детей – это признак большого таланта».
Прошло много времени, прежде чем Марго подчинилась семейной жизни.
Она сидела в кресле-качалке и сосала палец, в самом неожиданном углу. Ничто не привлекало ее внимания, кроме боя часов, которые каждый час она искала своими большими мечтательными глазами. Бывало, что несколько дней не удавалось заставить ее поесть. Она отталкивала еду с драматизмом и иногда бросала ее в угол. Все удивлялись, как она еще жива без еды, пока не поняли, что ей нравится только сырая земля из сада да известковые лепешки, которые она выковыривала из стен ногтями. Когда бабушка открыла это, она полила коровьей желчью самые аппетитные участки сада и спрятала пикантный перец в цветочных горшках. Падре Ангарита окрестил ее на той же церемонии, которой подтвердил срочное крещение меня при рождении. Я принял его, стоя на стуле, и смело перенес кухонную соль, которую падре положил мне на язык, и кувшин с водой, вылитый мне на голову.
Марго, напротив, возмутилась за двоих, с криком раненого зверя и, сопротивляясь всем телом, которое крестным отцам и матерям с большим трудом удавалось удерживать в крестильной купели.
Сейчас я думаю, что ее связь со мной была более разумной, чем у взрослых. Наше сообщничество было таким странным, что больше, чем в одном случае, мы угадывали мысли друг друга. Однажды утром мы с ней играли в саду, когда раздался свисток поезда, как каждый день в одиннадцать часов. Но на этот раз, услышав его, я ощутил необъяснимое провидение, что на этом поезде приехал врач банановой компании, который месяцами ранее дал мне отвар ревеня, от которого у меня случился приступ тошноты. Я побежал по всему дому с тревожными криками, но никто этому не поверил. Кроме моей сестры Марго, прятавшейся вместе со мной, пока врач не закончил завтракать и не уехал обратным поездом. «Слава Пречистой Марии! – воскликнула бабушка, когда нас нашли под ее кроватью. – С этими детьми не нужны телеграммы».
Я никогда не мог превозмочь страх остаться одному, особенно в темноте, но мне кажется, что у него было конкретное происхождение, и это то, что ночью материализовались все фантазии и предзнаменования бабушки. В семьдесят лет я все еще смутно различал во снах жар жасминов в галерее и призрак мрачных спален, и всегда с чувством, которое отравляло мне детство: ужас ночи. Сколько раз я чувствовал в моих бессонницах в гостиницах всего мира, что тень того мифического дома, как наказание, все еще со мной, дома, где мы умирали от страха каждую ночь много лет назад.
Самое удивительное, что бабушка, со своим чувством нереальности, могла поддерживать дом. Как возможно было направлять тот жизненный поезд с такими скудными ресурсами? Ни один из рассказов не дает на это ответ. Полковник выучился ремеслу у своего отца, который, в свою очередь, научился ему у своего. И, несмотря на известность его золотых рыбок, встречавшихся повсюду, они не были доходным делом. Более того, в моем детстве у меня создалось впечатление, что он делал их изредка или когда готовил подарок на свадьбу. Бабушка говорила, что он работает только на подарки. Тем не менее его слава хорошего чиновника пошла ему на пользу, когда партия либералов пришла к власти и он в разные моменты, в течение многих лет, был то казначеем, то управляющим имений.
Я не могу представить себе семейную среду более благодатную для моего призвания, чем этот безумный дом, особенно яркие характеры женщин, вырастивших меня. Единственными мужчинами были мой дедушка и я, и он посвятил меня в грустную реальность взрослых, с повествованиями о кровавых битвах и школьными объяснениями полета птиц и вечернего грома, и поддержал меня в моем увлечении рисованием. Сначала я рисовал на стенах, пока женщины дома не дошли до крика в небо: «На стенах рисует только сброд». Дедушка пришел в ярость, заставил выкрасить белым стену в своей мастерской и купил мне цветные карандаши, а позже коробку акварели, чтобы я рисовал, как мне нравится, пока он мастерил своих знаменитых золотых рыбок. Как-то раз я слышал, как он говорил, что внук будет художником, но это не произвело на меня впечатления, поскольку я считал, что художники – это только те, кто красит двери.
Кто меня знал в четыре года, говорят, что я был бледный и задумчивый и открывал рот только для того, чтобы произнести нелепости, но мои рассказы были большей частью о простой повседневной жизни, которые я делал более привлекательными, украшая их фантастическими подробностями, с одним желанием – привлечь к себе внимание взрослых. Моим лучшим источником вдохновения были разговоры, которые взрослые вели при мне, думая, что я их не понимаю, или которые они намеренно зашифровывали, чтобы я ничего не понял. Было все наоборот: я их впитывал как губка, разбирал на части, перемешивал, чтобы скрыть источник, и когда я рассказывал им самим то, о чем они говорили, они оставались озадаченными совпадениями между моими историями и их взрослыми мыслями.
Порой я не знал, что делать со своим сознанием, и старался приуменьшить его быстрым миганием. Я столько это делал, что один семейный рационалист решил показать меня глазному врачу, который счел мои моргания проявлением болезни миндалин и прописал сироп из редьки, смешанный с йодом, который явно пошел мне на пользу и успокоил взрослых. Бабушка со своей стороны пришла к провидческому заключению, что внук – прорицатель. Это превратило ее в мою излюбленную жертву до того дня, когда она упала в обморок, потому что представила в действительности, что у дедушки изо рта вылетела живая птица. Испуг, что она умрет по моей вине, был первым средством, умеряющим мою раннюю необузданность. Теперь я думаю, что это не были детские подлости, как можно было подумать, но рудиментарные проявления будущего рассказчика в зачаточном состоянии, чтобы сделать реальность более веселой и понятной.
Моим первым шагом в реальную жизнь было открытие футбола посреди улицы или на каких-нибудь соседних плантациях. Моим учителем был Луис Кармело Корреа, который родился с личным спортивным инстинктом и наследственным талантом к математике. Я был на пять месяцев старше его, но он шутил надо мной, потому что рос гораздо быстрее меня. Мы начали играть мячами из лоскутов, и я достиг того, что стал хорошим вратарем, но когда мы перешли на правильный мяч, я пострадал от удара в живот от такого мощного его броска, что даже ощутил гордость. В моменты, когда мы встречались уже взрослыми, я с большой радостью убеждался, что мы продолжаем обращаться друг с другом так же, как когда были детьми. Однако самым моим впечатляющим воспоминанием о той поре был мимолетный проезд директора банановой компании на роскошном открытом автомобиле рядом с женщиной с длинными золотистыми волосами, развевающимися по ветру, и с немецким пастором, восседавшим, словно король на почетном месте. Они были моментальными проявлениями далекого и неправдоподобного мира, который был запретным для нас, смертных.
Я начал прислуживать на мессе без чрезмерного легковерия, но со строгостью, о которой мне говорили, что это, пожалуй, основная составляющая веры. Должно быть, по причине этих добродетелей меня привели в шесть лет к падре Ангарита, чтобы приобщить к таинству первого святого причастия. Жизнь моя поменялась. Со мной начали обращаться как со взрослым, и старший ризничий учил меня прислуживать на мессе. Моей единственной проблемой было то, что я не мог понять, в какой момент я должен был звонить в колокол, и я звонил, когда придется, по чистому и простому вдохновению. На третий раз падре обернулся ко мне и приказал мне сурово, чтобы я в него больше не звонил. Хорошей частью ремесла было, когда другой служка, ризничий и я оставались одни, чтобы привести в порядок ризницу, и мы ели оставшиеся облатки со стаканом вина.
Накануне первого причастия падре исповедал меня без предисловий, сидя, как настоящий папа на тронном кресле, и я на коленях перед ним на плюшевой подушке. Мое понимание добра и зла было довольно простым, но падре помог мне вместе со словарем грехов, чтобы я ответил, какие я совершал, а какие нет. Он полагал, что я отвечаю хорошо, пока он не спросил меня, не совершал ли я грязных действий с животными. У меня было смутное понятие, что некоторые старшие совершали с ослицами грех, который я никогда не понимал, но только тем вечером я узнал, что такое тоже возможно с курицами. Таким образом, мой первый шаг к первому причастию был еще одним большим скачком в потере невинности, и я не нашел никакого стимула, чтобы оставаться служкой.
Мое испытание огнем было, когда родители переехали в Катаку с Луисом Энрике и Аидой, моими братом и сестрой. Марго, которая едва вспомнила папу, была от него в ужасе. Я тоже, но со мной он всегда был более осторожным. Только однажды он снял ремень, чтобы выпороть меня, и я выпрямился в позиции выдержки, закусил губы и раскрыл глаза, готовые перенести происходящее, не заплакав. Он опустил руку и надел ремень, ругая меня сквозь зубы за то, что я сделал. Позже в наших пространных взрослых разговорах он мне признался, что ему было очень больно нас пороть, но он делал это только из страха, что мы вырастем несчастными. В хорошие моменты он был веселым. Ему нравилось рассказывать забавные истории за столом, и некоторые были очень хороши, но он их повторял столько, что однажды Луис Энрике поднялся и сказал:
– Сообщите мне, когда все закончат смеяться.
Однако знаменательная порка произошла вечером, в который Луис Энрике не появился ни в доме родителей, ни в доме дедушки, и его долго искали, пока не обнаружили в кино. Сельсо Даса, продавец прохладительных напитков, налил ему один из сапоты в восемь вечера, и он исчез вместе со стаканом и не расплатился. Продавщица уличной еды продала ему пирог и видела его немного времени спустя, когда он разговаривал с привратником кинотеатра, пустившего его бесплатно, потому что он наврал, что его внутри ждет отец. Шел фильм «Дракула» с Карлосом Виллариасом и Лупитой Товар режиссера Джорджа Мелфорда. В течение многих лет Луис Энрике рассказывал мне о своем ужасе в момент, когда граф Дракула начал вонзать клыки вампира в шею красавицы, а в кинотеатре вдруг зажегся свет. Он находился в самом укромном месте, на балконе, там были свободные места. Он не окликнул папу и дедушку, которые прочесывали ряд за рядом вместе с владельцем кинотеатра и двумя полицейскими. Они едва не сдались, когда Папалело вдруг нашел его на последнем ряду балкона и помахал палкой:
– Он здесь!
Папа крепко схватил его за волосы, и порка, которую он задал ему дома, осталось как легендарное наказание в истории семьи. Мой ужас и восхищение тем актом независимости моего брата остались навсегда в моей памяти. Но он, казалось, все переносил каждый раз более героически. Тем не менее и сейчас меня интригует, что его непокорность не проявлялась в те редкие моменты, когда папы не было дома.
Я укрывался больше в тени дедушки. Всегда мы были вместе, по утрам в мастерской или в его кабинете управляющего имением, где он нашел мне счастливое занятие: рисовать клейма для коров, которых собирались забить, и воспринимал это с такой серьезностью, что уступил мне свое место за письменным столом. На обеде со всеми гостями мы с ним сидели во главе стола, он со своим большим кувшином из алюминия для холодной воды, и я с серебряной ложкой, которая служила мне для всего. Он обратил внимание, что если я хотел кусочек льда, то засовывал руку в кувшин, чтобы достать его, и на воде оставалась пленка жира. Бабушка меня защищала: «Он имеет все права».
В одиннадцать часов мы шли встречать поезд, потому что его сын Хуан де Дьос, который жил в Санта-Марте, посылал ему каждый день письмо с дежурным кондуктором, получавшим за это пять сентаво. Дедушка отвечал с помощью еще пяти сентаво с обратным поездом. Вечером, когда садилось солнце, он вел меня за руку по своим личным делам. То в парикмахерскую, которая находилась в четверти часах пути от дома, самого длинного в детстве, то смотреть на салют, от которого я пугался, во время национальных праздников, то на процессии Святой недели, с мертвым Христом, в моем детском воображении состоящим из человеческой плоти. Я носил тогда кепку в шотландскую клетку, такую же, как у дедушки, которую Мина купила, чтобы я больше походил на деда. И так хорошо мне это удалось, что дядя Кинте видел нас как одного человека в разных возрастах.
Выбрав на свое усмотрение то или иное время дня, дедушка вел меня за покупками в аппетитный комиссариат банановой компании. Там я узнал, что такое окунь, и впервые потрогал рукой лед, и меня потрясло открытие, до чего он был холодный. Я был счастлив попробовать все, что мне заблагорассудится, но мне надоедали партии в шахматы с Белгой и разговоры о политике. Теперь я осознаю все же, что в тех долгих прогулках мы видели два разных мира. Дедушка видел свой на своем горизонте, и я видел свой, на уровне моих глаз. Он приветствовал своих друзей на балконах, а я страстно мечтал об игрушках, выставленных торговцами на тротуарах.
В первый вечер мы задержались во всеобщем шуме на Четырех Углах, он, болтая с доном Антонио Даконте, который встретил его, стоя в дверях своей пестрой лавки, и я, изумляясь новинкам со всего мира. Меня сводило с ума, как фокусники с ярмарки вытаскивали кроликов из шляп, глотали горящие свечи, как чревовещатели заставляли говорить животных, как аккордеонисты громко пели о том, что произошло в Провинции. Сегодня я осознаю, что один из них, очень старый и с белой бородой, мог быть легендарным Франсиско эль Омбре.
Каждый раз, когда фильм ему казался подходящим, дон Антонио Даконте приглашал нас на ранний сеанс в свой салон «Олимпия», к прискорбию бабушки, которая считала это неподобающим развратом для невинного внука. Но Папалело настаивал и на следующий день заставлял меня рассказать фильм за столом, поправлял мои ошибки и забытые моменты и помогал мне восстановить непередаваемые эпизоды. Это были начатки драматического искусства, без сомнения, мне чем-то послужившие, особенно когда я начал рисовать комиксы раньше, чем научился писать. Сначала меня хвалили с благодарностью к малому дитя, но мне так нравились легкие рукоплескания взрослых, что те в итоге начали скрываться от меня, когда слышали, что я иду. Позже я достиг того же и с песнями, которые меня заставляли петь на свадьбах и днях рождения.
Перед тем как идти спать, мы проводили кучу времени в мастерской Белги, ужасного старца, который появился в Аракатаке после Первой мировой войны, и я не сомневаюсь, что он был бельгийцем, вспоминая его оглушительный выговор и ностальгию мореплавателя. Другим живым существом в его доме был большой датский дог, глухой и педерастичный, с именем как у президента Соединенных Штатов: Вудро Вильсон. Я познакомился с Белгой в четыре года, когда дедушка ходил играть несколько партий в шахматы, молчаливых и нескончаемых. В первый же вечер меня поразило, что в его доме не было ничего из того, что я знал и понимал, для чего оно служит. Потому что он был художником во всем и жил среди беспорядка своих собственных произведений, пастельных морских пейзажей, фотографий детей с дней рождений и первого причастия, копий азиатских драгоценностей, статуэток, сделанных из бычьего рога, старинной мебели разных стилей, сваленной в кучу.
Мое внимание привлекла его кожа, обтягивающая кости, того же солнечного желтого цвета, что и шевелюра, и прядь волос, вечно падающая ему на лицо и мешавшая говорить. Он курил трубку морского волка, которую разжигал только за шахматами, и мой дедушка говорил, что это уловка, чтобы задымить противника. У него был один выпученный стеклянный глаз, который казался более заинтересованным в собеседнике, чем второй здоровый. Ниже пояса он был инвалидом, наклоненным вперед и скрученным вправо, но он плавал как рыба среди подводных камней своей мастерской, казалось, подвешенный, а не поддерживаемый деревянными костылями. Я никогда не слышал, чтобы он хвалился своими отважными морскими походами. Единственной его страстью вне дома было кино, и он не пропускал ни одного фильма любого жанра по выходным.
Я никогда его не любил, и меньше всего во время шахматных партий, в которых он медлил часами, прежде чем передвинуть фигуру, пока я проваливался в сон. Однажды вечером я увидел его таким беспомощным, что меня охватило предчувствие, что он скоро умрет, и я ощутил жалость к нему. Но со временем мне так надоели эти игры, что в итоге я всем сердцем захотел, чтобы он умер.
В ту пору дедушка повесил в столовой картину с изображением Освободителя Симона Боливара в пылающем кабинете. Мне стоило труда понять, что он не был в саване мертвеца, который я видел на ночных бдениях по покойным, но вытянулся на письменном столе кабинета в форме своих славных дней. Заключительная фраза дедушки освободила меня от сомнений.