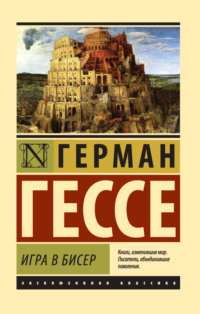
Игра в бисер
Между тем в переходные десятилетия культура эта не была погружена в сон, а как раз в период своей гибели и кажущейся капитуляции по вине художников, профессоров и фельетонистов достигла в сознании отдельных людей тончайшей чуткости и острейшей способности к самоконтролю. В самом расцвете эпохи фельетона повсюду были отдельные небольшие группы, полные решимости хранить верность духу и изо всех сил оберегать в эти годы ядро доброй традиции, дисциплины, методичности и интеллектуальной добросовестности. Насколько мы можем сегодня судить об этих явлениях, процесс самоконтроля, образумления и сознательного сопротивления гибели протекал главным образом в двух областях. Совесть ученых искала прибежища в исследованиях и методах обучения истории музыки, ибо эта наука как раз тогда была на подъеме, и внутри «фельетонного» мира два ставших знаменитыми семинара разработали образцово чистую и добросовестную методику. И словно сама судьба вздумала поощрить эти усилия крошечной когорты храбрецов, в самые мрачные времена произошло то дивное чудо, которое было вообще-то случайностью, но показалось божественным подтверждением: нашлись одиннадцать рукописей Иоганна Себастьяна Баха, принадлежавших некогда его сыну Фридеману! Вторым местом сопротивления порче было Братство паломников в Страну Востока, члены которого занимались не столько воспитанием интеллекта, сколько воспитанием души, заботясь о благочестии и почтительности, – отсюда наша нынешняя форма гигиены духа и игры в бисер получила важные импульсы, особенно по части созерцания. Причастны были паломники в Страну Востока также к новому пониманию сущности нашей культуры и возможностей ее дальнейшей жизни – не столько благодаря научно-аналитическим достижениям, сколько благодаря своей основанной на давних и тайных упражнениях способности магического проникновения в отдаленные времена и состояния культуры. Были среди них, например, музыканты и певцы, относительно которых утверждают, что они обладали способностью исполнять музыку прежних эпох во всей ее старинной чистоте, играть, например, и петь музыку начала или середины XVII века в точности так, словно все позднейшие моды, утончения, виртуозные изыски еще неизвестны. Во времена, когда в музыкальной жизни царила страсть к динамике и аффектации и когда за исполнением и «трактовкой» дирижера почти забывали о самой музыке, это было нечто неслыханное; есть сведения, что, когда оркестр паломников в Страну Востока впервые публично исполнил одну сюиту догенделевской эпохи без всяких усилений и приглушений, с наивностью и чистотой другого времени и другого мира, часть слушателей осталась в полном недоумении, часть же насторожилась и подумала, что впервые в жизни слушает музыку. Один из членов Братства построил в его зале между Бремгартеном и Морбио баховский орган, совершенно такой, какой заказал бы себе Иоганн Себастьян Бах, будь у него на это средства и возможности. По правилу, действовавшему в Братстве уже тогда, строитель этого органа утаил свое имя и назвал себя Зильберманом – в честь своего предшественника, жившего в XVIII веке.
Теперь мы подошли к источникам, из которых возникло наше сегодняшнее понимание культуры. Одним из важнейших была самая молодая наука, история музыки и музыкальная эстетика, затем – последовавший вскоре подъем математики, сюда прибавились капля бальзама из мудрости паломников в Страну Востока и, в теснейшей связи с таким новым восприятием и толкованием музыки, этот храбрый, столь же веселый, сколь и смиренный, взгляд на проблему возраста культур. Нет нужды говорить здесь об этом много, эти вещи известны каждому. Важнейшим результатом этой новой точки зрения, вернее, этого нового включения в культурный процесс были полный отказ от создания произведений искусства, постепенное освобождение людей высокодуховных от мирских дел и – что не менее важно и как венец всего этого – игра в бисер.
Величайшее влияние на основы Игры оказало происшедшее уже в начале XX века, еще в самый расцвет эпохи фельетона, углубление музыковедения. Мы, наследники этой науки, считаем, что лучше знаем и в каком-то смысле даже лучше понимаем музыку великих творческих веков, особенно XVII и XVIII, чем знали и понимали ее все прежние эпохи (в том числе даже эпоха классической музыки). Конечно, у нас, потомков, совершенно другое отношение к классической музыке, чем было у людей творческих эпох; наше проникнутое духовностью и не всегда достаточно свободное от смиренной грусти уважение к настоящей музыке есть нечто совершенно иное, чем прелестный, наивный восторг перед музыкой, свойственный тем временам, которым мы склонны завидовать как более счастливым, когда именно за этой их музыкой забываем условия и судьбы, ее порождавшие. Мы уже в течение нескольких поколений видим великое наследие того периода культуры, что лежит между концом Средневековья и нашим временем, не в философии и поэтическом творчестве, как то было в течение почти всего XX века, а в математике и музыке. С тех пор как мы – по крайней мере в общем и целом – отказались от творческого соревнования с этими поколениями, с тех пор как мы покончили с тем культом главенства в музыке гармонии и чисто чувственной динамики, который, начиная примерно с Бетховена и ранней романтики, царил в течение двух веков, мы думаем, что видим на свой лад – конечно, на свой нетворческий, эпигонский, но почтительный лад! – картину унаследованной нами культуры чище и правильнее. У нас нет и в помине творческого буйства того времени, нам почти непонятно, как могли музыкальные стили в XV и XVI веках сохраняться так долго в неизменной чистоте, как вышло, что среди огромной массы написанной тогда музыки нет, кажется, вообще ничего плохого, как случилось, что еще XVIII век, век начинающегося вырождения, блеснул недолгим, но самоуверенным фейерверком стилей, мод и школ, – но в том, что мы называем сегодня классической музыкой, мы, думается, поняли и взяли за образец тайну, дух, добродетель и благочестие тех поколений. Сегодня мы, например, не очень высокого или даже низкого мнения о богословии и церковной культуре XVIII века или о философии эпохи Просвещения, но в кантатах, «Страстях» и прелюдиях Баха мы видим последний взлет христианской культуры.
Впрочем, отношение нашей культуры к музыке следует еще одному древнейшему и почтеннейшему образцу, игра в бисер отдает ему дань глубокого уважения. В сказочном Китае «древних императоров», помнится нам, музыке отводилась в государстве и при дворе ведущая роль: благосостояние музыки поистине отождествляли с благосостоянием культуры, нравственности, даже империи, и капельмейстеры должны были строго следить за сохранностью и чистотой «древних тональностей». Если музыка деградировала, то это бывало верным признаком гибели правления и государства. И поэты рассказывали страшные сказки о запретных, дьявольских и чуждых небу тональностях, например о тональности Цзин Чан и Цзин Цзэ, о «музыке гибели»: как только в императорском дворце раздались ее кощунственные звуки, потемнело небо, задрожали и рухнули стены, погибли владыка и царство. Вместо многих других слов древних авторов приведем здесь несколько выписок из главы о музыке «Вёсен и осеней» Люй Бувэя.
«Истоки музыки – далеко в прошлом. Она возникает из меры и имеет корнем Великое единство. Великое единство родит два полюса; два полюса родят силу темного и светлого.
Когда в мире мир, когда все вещи пребывают в покое, когда все в своих действиях следуют за своими начальниками, тогда музыка поддается завершению. Когда желания и страсти не идут неверными путями, тогда музыка поддается усовершенствованию. У совершенной музыки есть свое основание. Она возникает из равновесия. Равновесие возникает из правильного, правильное возникает из смысла мира. Поэтому говорить о музыке можно только с человеком, который познал смысл мира.
Музыка покоится на соответствии между небом и землей, на согласии мрачного и светлого.
Гибнущие государства и созревшие для гибели люди тоже, правда, не лишены музыки, но их музыка не радостна. Поэтому: чем бурнее музыка, тем грустнее становятся люди, тем больше опасность для страны, тем ниже падает правитель. Таким же путем пропадает и суть музыки.
Все священные правители ценили в музыке ее радостность. Тираны Цзя и Чжоу Син любили бурную музыку. Они считали сильные звуки прекрасными, а воздействие на большие толпы – интересным. Они стремились к новым и странным звучаниям, к звукам, которых еще не слышало ни одно ухо; они старались превзойти друг друга и преступили меру и цель.
Причиной гибели государства Чу было то, что там придумали волшебную музыку. Ведь такая музыка, хотя она достаточно бурная, в действительности удалилась от сути музыки. Поскольку она удалилась от сути подлинной музыки, музыка эта не радостна. Если музыка не радостна, народ ропщет, и жизни причиняется вред. Все это получается оттого, что пренебрегают сутью музыки и стремятся к бурным звучаниям.
Поэтому музыка благоустроенного века спокойна и радостна, а правление ровно. Музыка неспокойного века взволнованна и яростна, а правление ошибочно. Музыка гибнущего государства сентиментальна и печальна, а его правительство в опасности».
Положения этого китайца довольно ясно указывают нам истоки и подлинный, почти забытый смысл всякой музыки. Подобно пляске, да и любому искусству, музыка была в доисторические времена волшебством, одним из древних и законных средств магии. Коренясь в ритме (хлопанье в ладоши, топот, рубка леса, ранние стадии барабанного боя), она была мощным и испытанным средством одинаково «настроить» множество людей, дать одинаковый такт их дыханию, биению сердца и состоянию духа, вдохновить их на мольбу вечным силам, на танец, на состязание, на военный поход, на священнодействие. И эта изначальная, чистая и первобытно-могучая сущность сохранялась в музыке гораздо дольше, чем в других искусствах, достаточно вспомнить многочисленные высказывания историков и поэтов о музыке, от греков до «Новеллы» Гете. На практике ни маршевый шаг, ни танец никогда не теряли своего значения… Но вернемся к главной теме!
Сейчас мы вкратце изложили самое необходимое о начале Игры. Возникла она, по-видимому, одновременно в Германии и в Англии, причем в обеих странах как занимательное упражнение в тех узких кругах музыковедов и музыкантов, которые работали и учились в новых музыкально-теоретических семинарах. И если сравнить начальное состояние Игры с позднейшим и нынешним, то это все равно что сравнить нотную запись XIV века и ее примитивные знаки, между которыми нет еще даже тактовых черт, с партитурой XVIII, а то даже и XIX века, обескураживающе обильной сокращенными обозначениями динамики, темпов, фразировки и так далее, из-за чего печатание таких партитур часто становится сложной технической проблемой.
Игра была поначалу не чем иным, как остроумным упражнением памяти и комбинационных способностей в среде студентов и музыкантов, и играли в нее, как сказано выше, в Англии и Германии еще до того, как она была «изобретена» в Кёльнском высшем музыкальном училище, где и получила свое название, которое носит и ныне, столько поколений спустя, хотя давно уже не имеет никакого отношения к бисеру. Бисером вместо букв, цифр, нот и других графических знаков пользовался ее изобретатель, Бастиан Перро из Кальва, странноватый, но умный и общительно-человеколюбивый теоретик музыки. Перро, оставивший, кстати, статью о «Расцвете и упадке контрапункта», застал в кёльнском семинаре привычку играть в одну уже довольно сильно развитую учениками игру: они называли друг другу, пользуясь аббревиатурами своей науки, мотив или начало какого-нибудь классического сочинения, на что партнер отвечал либо продолжением пьесы, либо, еще лучше, верхним или нижним голосом, контрастирующей противоположной темой, и так далее. Это было упражнение для памяти и упражнение в импровизации, подобные упражнения (хотя и не теоретически, не с помощью формул, а практически, на клавесине, на лютне, на флейте или напевая) вполне могли проделывать когда-то усердные ученики, занимавшиеся музыкой и контрапунктом во времена Шюца, Пахельбеля и Баха. Бастиан Перро, любитель ручного труда, своими руками сделавший множество клавикордов и роялей по образцу старинных, принадлежавший, весьма вероятно, к паломникам в Страну Востока и, по преданию, умевший играть на скрипке старинным, забытым с начала XIX века способом, сильно выпуклым смычком с регулируемым натяжением волоса, – Перро соорудил себе, по примеру немудреных счетов для детей, раму с несколькими десятками проволочных стержней, на которые он нанизал бисерины разных размеров, форм и цветов. Стержни соответствовали нотным линейкам, бусины – значениям нот и так далее, и таким образом он строил из бисера музыкальные цитаты или придуманные темы, изменял, транспонировал, развивал, варьировал их и сопоставлял их с другими. Эта штука, хотя с технической точки зрения и сущее баловство, понравилась ученикам, вызвала подражания и вошла в моду, в Англии тоже, и одно время музыкальные упражнения проигрывались таким примитивно-очаровательным способом. И как то часто бывает, так и в данном случае долговечное и важное установление оказалось обязано своим наименованием случайности, пустяку. То, что вышло позднее из той семинарской игры и из унизанных бусинами стержней Перро, и ныне носит ставшее популярным название – «игра в бисер».
Столетия два-три спустя Игра, кажется, перестала пользоваться такой любовью у изучающих музыку, но зато была перенята математиками, и характерной чертой истории Игры долго оставалось то, что ей всегда оказывала предпочтение, пользовалась ею и развивала ее та наука, которая в данное время переживала расцвет или возрождение. У математиков Игра достигла большой подвижности и способности к совершенствованию, как бы уже осознав себя самое и свои возможности, и произошло это параллельно с общим развитием тогдашнего сознания культуры, которое, преодолев великий кризис, «со скромной гордостью, – как выражается Плиний Цигенхальс, – примирилось со своей ролью принадлежать поздней культуре, состоянию, примерно соответствующему поздней античности, эллинистическо-александрийской эпохе».
Так говорит Цигенхальс. Мы же, заканчивая свой обзор истории игры в бисер, констатируем: перейдя из музыкальных семинаров в математические (что совершилось во Франции и в Англии, пожалуй, еще быстрей, чем в Германии), Игра развилась настолько, что смогла выражать особыми знаками и аббревиатурами математические процессы: игроки потчевали друг друга, обоюдно развивая их, этими отвлеченными формулами, они проигрывали, демонстрировали друг другу эволюции и возможности своей науки. Математическо-астрономическая игра формул требовала большой внимательности, бдительности и сосредоточенности, среди математиков уже тогда репутация хорошего игрока стоила многого, она была равнозначна репутации хорошего математика.
Игру периодически перенимали, то есть применяли к своей области, чуть ли не все науки; засвидетельствовано это относительно классической филологии и логики. Анализ музыкальных значений привел к тому, что музыкальные процессы стали выражать физико-математическими формулами. Немного позже этим методом начала пользоваться филология, измеряя структуры языка так же, как физика – явления природы; потом это распространилось на изучение изобразительных искусств, где давно уже благодаря архитектуре существовала связь с математикой. И тогда между полученными этим путем абстрактными формулами стали открываться все новые отношения, аналогии и соответствия. Каждая наука, овладевая Игрой, создавала себе для этого условный язык формул, аббревиатур и комбинационных возможностей; среди элиты высокодуховной молодежи везде были в ходу игры с рядами формул и диалогами в формулах. Игра была не просто упражнением и не просто отдыхом, она олицетворяла гордую дисциплину ума, особенно математики играли в нее с аскетической и в то же время спортивной виртуозностью и педантичной строгостью, находя в ней наслаждение, облегчавшее им отказ от мирских удовольствий и устремлений, который тогда уже взяли за правило люди высокого духа. В полное преодоление фельетонизма и в ту вновь пробудившуюся радость от изощренных умственных упражнений, которой мы обязаны новой монашески строгой дисциплиной ума, игра в бисер внесла большой вклад. Мир изменился. Духовную жизнь фельетонной эпохи можно сравнить с выродившимся растением, которое без пользы уходит в рост, а последующие поправки – со срезанием этого растения до самых корней. Молодые люди, желавшие теперь посвятить себя умственным занятиям, уже не подразумевали под этим порханье по высшим учебным заведениям, где знаменитые и болтливые, но неавторитетные профессора угощали их остатками былой образованности; учиться они должны были теперь так же упорно и даже еще упорнее и методичнее, чем некогда инженеры в политехнических институтах. Они должны были идти крутой дорогой, очищая и развивая свой интеллект математикой и аристотелевско-схоластическими упражнениями, а кроме того, учась полностью отказываться от всех благ, домогаться которых прежние поколения ученых считали нужным: от быстрых и легких заработков, от славы и публичных почестей, от хвалы в газетах, от браков с дочерьми банкиров и фабрикантов, от житейской избалованности и роскоши. Писатели с большими тиражами, Нобелевскими премиями и красивыми дачами, великие медики с орденами и слугами в ливреях, университетские деятели с богатыми супругами и блестящими салонами, химики, состоящие в наблюдательных советах промышленных акционерных обществ, философы с целыми фабриками фельетонов, читающие увлекательные доклады в переполненных залах под аплодисменты и с преподнесением цветов, – все эти фигуры исчезли и поныне не возвращались. Встречалось, правда, и теперь немало способных молодых людей, для которых эти фигуры служили завидными образцами, но пути к почестям, богатству, славе и роскоши уже не проходили теперь через аудитории, семинары и диссертации, низко павшие духовные поприща обанкротились в глазах мира и вновь обрели взамен покаянно-фанатическую преданность духу. Таланты, стремившиеся больше к приятной жизни и блеску, должны были повернуться спиной к оказавшейся не в чести духовности и обратиться к поприщам, к которым отошли благополучие и хорошие заработки.
Нас завело бы это чересчур далеко, если бы мы стали подробно описывать, каким образом дух после своего очищения добился признания и в государстве. Вскоре стало ясно, что духовной расхлябанности и бессовестности нескольких поколений оказалось достаточно, чтобы причинить вполне ощутимый вред и практической жизни, что на всех более или менее высоких поприщах, в том числе и технических, умение и ответственность встречаются все реже и реже, и поэтому попечение о духовной жизни народа и государства, в первую очередь все школьное дело, было постепенно монополизировано людьми высокодуховными; да и сегодня еще почти во всех странах Европы школа, если она не осталась под контролем Римской церкви, находится в руках тех анонимных орденов, которые формируются из высокодуховной элиты. Как ни неприятны порой общественному мнению строгость и, так сказать, надменность этой касты, как ни бунтовали против нее отдельные лица, руководство ее еще не пошатнулось, оно защищено и держится не только своей безупречностью, своим отказом от всяких преимуществ и благ, кроме духовных, защищает его и давно уже ставшее всеобщим знание или смутное чувство, что эта строгая школа необходима для дальнейшего существования цивилизации. Люди знают или смутно чувствуют: если мышление утратит чистоту и бдительность, а почтение к духу потеряет силу, то вскоре перестанут двигаться корабли и автомобили, не будет уже ни малейшего авторитета ни у счетной линейки инженера, ни у математики банка и биржи, и наступит хаос. Прошло, однако, довольно много времени, прежде чем пробило себе дорогу понимание того факта, что и внешняя сторона цивилизации, что и техника, промышленность, торговля и так далее тоже нуждаются в общей основе интеллектуальной нравственности и честности.
Чего, однако, еще не хватало Игре в то время, так это универсальности, способности подняться над специальностями. Астрономы, эллинисты, латинисты, схоласты, музыковеды играли по остроумным правилам в свои игры, но для каждой специальности, для каждой дисциплины и ее ответвлений у Игры был свой особый язык, свой особый мир правил. Прошло полвека, прежде чем был сделан первый шаг для преодоления этих границ. Причина такой медленности была, несомненно, скорее нравственная, чем формальная и техническая: средства для преодоления границ уже нашлись бы, но со строгой моралью этой новой духовности была связана пуританская боязнь «ерунды», смешения дисциплин и категорий, глубокая и вполне правомерная боязнь впасть снова в грех баловства и фельетона.
К осознанию ее возможностей и тем самым к способности развиваться универсально игру в бисер чуть ли не сразу подвел совершенно самостоятельно один человек, и этим прогрессом Игра была обязана опять-таки связи с музыкой. Один швейцарский музыковед, к тому же страстный любитель математики, дал Игре новый поворот и тем самым возможность высочайшего расцвета. Подлинное имя этого великого человека уже не поддается установлению, его время уже не знало в сфере духа культа отдельных лиц, в истории же он известен как Lusor (а также Joculator) Basiliensis[3]. Хотя его изобретение, как всякое изобретение, и было, безусловно, личной его заслугой и благодатью, вызвано оно было отнюдь не только какой-то личной потребностью и целью, а некой более мощной движущей силой. В его время люди духа повсюду испытывали страстное желание найти возможность выразить новые ходы своих мыслей, тосковали о философии, о синтезе, прежнее счастье чистой замкнутости в своей дисциплине казалось уже недостаточным, то там, то здесь кто-нибудь из ученых прорывался за барьеры специальной науки и пытался пробиться к всеобщности, мечтали о новой азбуке, о новом языке знаков, который мог бы зафиксировать и передать новый духовный опыт. Особенно ярко свидетельствует об этом сочинение одного парижского ученого тех лет, озаглавленное «Китайский призыв». Автор его, как Дон Кихот вызывавший насмешки, впрочем, в своей области, китайской филологии, маститый ученый, разбирает, какие опасности грозят науке и духовной культуре при всей их добросовестности, если они откажутся от создания международного языка знаков, который, подобно китайской грамоте, позволил бы понятным для всех ученых мира способом графически выразить сложнейшие вещи без отрешения от личной изобретательности и фантазии. И важнейший шаг к исполнению этого требования сделал Joculator Basiliensis. Он открыл для игры в бисер принципы нового языка, языка знаков и формул, где математике и музыке принадлежали равные доли и где можно было, связав астрономические и музыкальные формулы, привести математику и музыку как бы к общему знаменателю. Хотя развитие на том отнюдь не кончилось, основу всему, что произошло в истории нашей драгоценной Игры позднее, этот неизвестный из Базеля тогда положил.
Игра в бисер, когда-то профессиональная забава то математиков, то филологов, то музыкантов, очаровывала теперь все больше и больше подлинных людей духа. Ею занялись многие старые академии, ложи и особенно древнейшее Братство паломников в Страну Востока. Некоторые католические ордена тоже почуяли тут духовную свежесть и пришли от нее в восторг; особенно в некоторых бенедиктинских обителях Игре уделяли такое внимание, что уже тогда встал со всей остротой всплывавший порой и впоследствии вопрос: следует ли церкви и курии терпеть, поддерживать или запретить эту игру.
После подвига базельца Игра быстро сделалась тем, чем она является и сегодня, – воплощением духовности и артистизма, утонченным культом, unio mystica всех разрозненных звеньев universitas litterarum. В нашей жизни она взяла на себя роль отчасти искусства, отчасти спекулятивной философии, и во времена, например, Плиния Цигенхальса ее нередко определяли термином, идущим еще от литературы фельетонной эпохи, когда он обозначал вожделенную цель предчувствовавшего кое-что духа, – термином «магический театр».
Если техника, если объем материала Игры выросли с ее начальных пор бесконечно и если в части интеллектуальных требований к игрокам она стала высоким искусством и наукой, то все же во времена базельца ей еще не хватало чего-то существенного. Дотоле каждая ее партия была последовательным соединением, группировкой и противопоставлением концентрированных идей из многих умственных и эстетических сфер, быстрым воспоминанием о вневременных ценностях и формах, виртуозным коротким полетом по царствам духа. Лишь значительно позднее в Игру постепенно вошло понятие созерцания, взятое из духовного багажа педагогики, но главным образом из круга привычек и обычаев паломников в Страну Востока. Обнаружился тот недостаток, что фокусники от мнемоники, лишенные каких бы то ни было других достоинств, могут виртуозно разыгрывать виртуозные и блестящие партии, ошарашивая партнеров быстрой сменой бесчисленных идей. Постепенно на эту виртуозность наложили строгий запрет, и созерцание стало очень важной составной частью Игры, даже главным для зрителей и слушателей каждой партии. Это был поворот к религиозности. Задача заключалась уже не только в том, чтобы быстро, внимательно, с хорошей тренировкой памяти следовать умом за чередами идей и всей духовной мозаикой партии, возникло требование более глубокой и душевной самоотдачи. После каждого знака, оглашенного руководителем Игры, проходило тихое, строгое размышление об этом знаке, о его содержании, происхождении, смысле, что заставляло каждого партнера ярко и живо представить себе значения этого знака. Технику и опыт созерцания все члены Ордена и игровых общин приносили из элитных школ, где искусству созерцания и медитации отдавалось очень много сил. Это предотвратило вырождение иероглифов Игры в простые буквы.