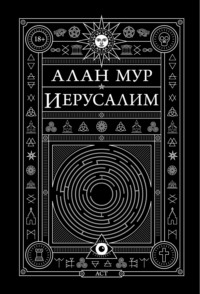
Иерусалим
Чуть погодя он поднялся с рыночной улицы, хотя и не на самую вершину – холмы на юго-востоке побивали его возвышенность в состязании роста. Одесну ́ю подле ног его продолжала взбираться по склону восточная стена поселения с брешами там и сям, тогда как ошу ́юю вниз по холму сбегало великое множество улочек и переулков. Хотя он сам бы признал, что в его блужданиях нет цели, Петр решил, что, быть может, ежели обогнет город вдоль стены, то охватит его размеры и формы, чтобы исходя из знаний высчитать середину. Так, план был столь расплывчатым и чахлым, что его как и не было, а теперь Петр чувствовал, что от его завершения отвлекают и напряжение в мочевом пузыре, и голод в животе. Он все еще следовал по тропе на север, каковой не уклонялся от самого моста, но теперь вновь достиг ровных лугов, над склоном со швецами. Здесь молчаливые мужчины с былинками во рту и шумными псами вели в загоны уйму овец, и он тотчас вспомнил о деве с камнем Тора, с которой взял ответ о старом храме на овечьей тропе дальше по дороге. Хотя церковь еще не повстречалась, он не обиновался, судя по пешеходам на тропе, что движется верным путем.
Пока он спускался в неглубокую низину, вокруг и всюду, куда ни посмотри, топтались блеющие твари, которых сгоняли с запада Мерсии и Уэльса великими ордами, вызывая в воображении картины белой во все края земли – летом, а не в зимнюю пору. Теперь задумавшись, Петр вспомнил: еще с детства он знал, что западная скотная тропа завершается недалеко от Хелпстуна или же Питерборо, в срединных деревеньках страны, но думать не думал, что окончание ее лежит в Гамтуне. Отсюда погонщики водили стада в другие края по римской дороге, что привела Петра от Лондона и крутого белого побережья, либо мимо района Святого Неота к Норичу и восточнее, тем самым прокармливая бараниной всю страну. Ужели здесь, в Гамтуне, сходятся все дороги Англии, подивился он, сплетенные в узел какой-то исполинской повитухой, точно пуповина страны? Петр брел в шерстяном приливе по широкой улице, мощенной черным пометом, все так же двигаясь на север, теперь свесив мешок в руке, чтобы дать отдохнуть ноющему плечу.
Почти прошед чрез остолопство животных, впереди на кургане справа увидал он грубую церковку, сложенную из камней, – она-то, понадеялся Петр, и будет тем храмом, о котором поведала женщина, хотя виду церковка была заброшенного и запустелого. Подумав перевести там занимавшийся дух и перекусить нехитрой снедью, запрятанной с парой монет в потайной карман рясы, он свернул на восток от вонючей жижи овечьей дороги и споро поднялся под сенью ветвей и порошей лепестков к постройке наверху пригорка, принятой за церковь.
Под кровом раскинувшихся деревьев паслось несколько плосколицых и безразличных шерстяных созданий, возле них-то Петр и опустил свой груз на землю и отринул рясу, чтобы выпустить в узловатые корни бука струйку тоньше, чем он было ожидал. Ее поток казался густым и оранжевым, хотя и кратким, и он предположил, что бо ́льшая часть жидкости уже испарилась через хлещущие поры кожи. Петр стряхнул с уда последние капли скупого ручейка и оправил одеяние, поискавши глазами место, где можно бы приступить к трапезе. Наконец он остановил выбор на зеленой цветистой поляне под древним дубом, на него и оперся спиною всего в паре шагов от нагромождения камней храма.
Теперь, когда он присмотрелся, присемши на мураву с мешком поблизости и вгрызаясь в корочку, извлеченную из подкладки за пазухой, Петр уже не был столь уверен в христианском происхождении низкого сооружения и навострил глаза к необычности его. Он раскинулся на своем дубовом троне и медленно перемалывал зубами ломоть и козий сыр во влажный серый мякиш, размышляя, что же за одинокое строение перед ним или какую службу оно некогда служило. На старых каменных столбах дверного проема заплетались выбитые драконы – куда длиннее, чем несчастное создание, в помойной яме у Лондона пойманное. Ежели то вправду дом христианских богослужений, Петр смекнул, что христианство то старше его собственного и произрастало из традиций трехсотлетней давности, когда предшественники ордена Петра были вынуждены поневоле идти на уступки перед последователями языческих богов, смешивая учение о Христе с обычаями невежественными и суеверными да проповедуя с курганов, где некогда святилища демонов высились. Змеящаяся по столбам резьба изображала аспида, который объял мир, из старых религий, что помещали обиталище смертных посередине других двух – Хелем внизу и нордическим раем за мостом – наверху.
Исключая такие подробности, как мост, рай тот не разнствовал с раем его собственной веры: жизнь, что простирается далее краткого срока на земле и в каком-то роде помещается над ним, на горней вышине, а оттоле видишь и ведаешь силки и капканы мира сего. Хотя Петр никогда не произносил этого вслух в монастыре Святого Бенедикта, он не усматривал столь уж важным, ведет к раю мост ли, лествица ли, какие имена носят обитающие там персонажи, что за истории у богов. По мысли его, в том-то и ошибка христианства в Англии, что ныне народ увлечен поисками истины в писаниях, кои почитают лишь за притчи в других землях, и оттого у них все ладно. Судя по тому, что слышал он о магометанах, их библия была сборником историй, что лишь окормляли и научали примером, а вовсе не считались пересказом исторической были. Так толковал христианскую Библию и Петр, прочтя ее от доски до доски, – подобно истории Беды, подобно втайне подслушанным байкам о чудищах из скандинавских земель, – но, когда бы он сам ни оглашал христианскую доктрину, всюду сталкивался с узколобостью, пустозвонными требованиями ответствовать, взаправду ли мир сотворен за шесть дней.
Петр веровал в сиятельный идеал, и идеал сей олицетворял Христос, фигура учителя. Вера для Петра была добровольным признанием священного. Ежели вера меньше того или больше того, то она лишь верование – так дети верят в сказку о гоблинах, покамест не умчатся к другим потехам. Хранить веру в материальный факт – лишь тщета, которую легко разбить, тогда как идеал остается вечной истиной в любом выражении. Верование, как его видел лично Петр, немногого стоило. Вечный, невоплощенный идеал – вот что главное, вот свет, что ордены, подобно его ордену, сберегли в ночи, а теперь стремились пролить на темный, павший мир. Он не верил в ангелов как в материальных существ, а как в идеалы ему не нужно было в них верить: он знал их. Он встречал их в своих хождениях и видел их, хотя его и не заботило, видел он их глазами смертного или же мысленным взором, подобающим идеалу. Он встречал ангелов. Он не верил. Он знал и чаял, что сотню лет вперед его исповедание не завязнет в болоте верующих. Не эта ли участь постигла старых богов, у храма которых теперь хлеб с сыром он вкушает?
С думами покончивши, смахнул он крошки с бороды на откуп голубям, сбирающимся вокруг развалин. Встав на ноги и вновь подымая мешок, спустился он по взгорку обратно к овечьей тропе, взбивая поношенными веревочными сандалиями иней лепестков, с высящихся над главою деревьев опавший. Опустел теперь скотный прогон, не считая ковра из помета и узоров копыт, как на пощипанном глиняном горшке. Петр обновил путь на север, но тут же уткнулся носом в северную стену города и просмоленные бревна северных ворот, стоявших приоткрытыми, как и их собратья на юге у реки.
В этом квартале поселения царила иная атмосфера, с чувством лютым и зловредным, которой немало споспешествовали отрубленные головы на кольях над воротами. Судя по светлым волосам в нестриженной манере, еще свисающим клоками с истлевающих черепов, Петр принял их за душегубов из Дании или прочих северных краев, удивленных открытию, что в Гамтуне хватает своих душегубов. Одна из голов мельтешила, и ему подумалось, что его подводят глаза, но то оказался лишь рой мясных мух, из распахнутого рта вылупившихся.
Значит, поселение пройдено из конца в конец, с юга на север. Немного же времени это заняло. Перед преградой из бревен он правил путь на запад, налево, и покатился вниз по холму, чтобы найти еще не виданный край Гамтуна. Во время спуска по склону дола – снова, как выяснилось, в направлении реки – перед ним раскинулся великолепный простор земли, где подымались завитки дыма, обозначая пределы жилья на западе Гамтуна и на противоположной стороне Ненн. Та казалась серою и серебряною косичкою, петлявшею промеж желтых и зеленых полей под далекими древами, а над ней деревянной дугой накинулся мост, через какой, по его мысли, и гуртовали овец из Уэльса. Заметил он недалеко от реки, на ближнем берегу, и высокую стену, выстроенную из жердей, как городские стены. Может статься, там монастырь или владения лорда, и тогда их восточный забор обозначает западную границу городка.
Вывод, хотя и голословный, что поблизости служат другие монахи, навел мысли на его собственный монастырь в тихих полях у Питерборо, где Петр не бывал вот уже три года или того боле. Его укололо воспоминание о келье и постели в Медешемстеде, как и память о друзьях среди братства, и с окрепшей душой он обещал себе поворотить туда стопы, когда труд в Гамтуне будет окончен, а долг – исполнен. А значит, сказал он себе, не прежде, чем отыщется центр поселения и точно на нем талисман водворится, в джутовую ткань обернутый. Тоска же по луговой отчизне не приблизит к цели, послужит лишь тому, чтобы расстроить скорейшее ее достижение.
Ошуюю теперь были узкие проходы, убегавшие меж домов теснящихся, изгибаясь за углы и скрываясь, чтобы переплестись в узел – узел кишок Гамтуна, помышлял теперь Петр, сырых и цвета дивного, – в то время как, обойдя Гамтун повдоль стен, он видел не более чем разукрашенную и пигментированную шкуру града. Желание углубиться в лабиринт улочек вводило Петра в искушение, сулило, что отыщет он нужное место, будучи вспомогаем одним лишь чутьем, и все же верх одержало здравомыслие. Тут он вспомнил погонщика, встреченного дорогой в Вуличе, который знал о Гамтуне и обронил среди прочего: «Там сплошь тропинки и перекрестки, что в твоем кроличьем гнезде. Внутрь попасть непросто, но скажу тебе без утайки – обратно выбраться стократ тяжелей». Петр может заплутать средь узких улочек, а потому лучше повременить и обойти попервоначалу границы поселения, как он и задумал, дабы снять мерку. Так Петр продолжал шагать по холму, пока почти не уперся в стену, с пика виденную, посему отметил про себя, что Гамтун с востока на запад оказался вдвое меньше, чем с юга на север, и представил его форму в виде узкого обрывка коры либо пергамента. Начертано ли на нем что-либо и хватит ли Петру смекалки прочесть послание – этого он еще не наблюдал.
Стена из жердей, бежавшая по берегу реки, оканчивалась мостом, что вел из поселения к Уэльсу. Под деревянным настилом Ненн тоже брала поворот в том направлении, и стена между Петром и кромкою реки, послушно загибавшейся на запад, сменялась здесь высокой и черной живой изгородью, укреплением служившей. Так, очутившись в очередном углу Гамтуна, снова свернул Петр и поплелся книзу – навстречу, как теперь ему было ведомо, долгой прогулке до южных пределов, откуда пустился он в обход стороною некоторыми часами ранее. Направо его был серебристый квадрат низкого серого неба, где брезжило солнце, готовясь к долгому провалу в ночь. Начал же он путь около полудня.
Подавшись на юг, у нижней части поселения нашел он немного домов, только крофты – огороды со скромной лачугой. На отлогих склонах впереди подымалась тонкая пряжа дыма и в бледный покров вязалась, потому решил он, что пастбища там населены гуще. Вдоль реки же на своем пути Петр видел одно-единственное жилище, поставленное как будто на углу развилки – второй из двух на его пути, уводивших на восток, наверх, меж пустыми выгонами.
Он приблизился к близлежащему ответвлению, остановился и окинул его глазами. Подымавшееся от него наверх, оно казалось протоптанным, но вид имело древний, как и канава вдоль него, где журчал ручеек, точившийся, по мысли Петра, из родника или ключа наверху. Петр прошел основание проселка, болтая сумой за спиной, и зашагал к каменной хижине-крофту на углу, где к дороге льнула вторая боковая тропа. Приземистое зданьице смотрелось нелюдимым, одинокое на западном отшибе поселения, без всяких признаков огня в очаге. За грязным проездом направо от Петра из камней был сложен славный колодезь, над которым поставили деревянный ворот с веревкой и висящим ведром. У Петра не было ни капли во рту с самой остановки у пруда со свежей водой – около полудня, в нескольких лигах к югу от Гамтуна, – засим Петр сошел с прямого пути в сторону криницы, на ходу насвистывая песенку, которую смутно помнил откуда-то с дороги.
Когда он подошел, колодец оказался больше, чем мнилось издали: кольцо из камней доходило до груди, и было не меньше двух шагов от одной стенки до другой. Он обернул рукоятку лебедки, чтобы стравить веревку, после чего весело раскрашенное деревянное ведро нырнуло с глаз долой в бездонную дыру. Через несколько мгновений спуска снизу раздался слабый плеск, и скоро он уже вытягивал емкость куда тяжелее, чем опускал. Намокшее вервие скрипело, и Петр слышал и чувствовал волнение у стенок качающегося сосуда, из темного жерла на белый свет возносящегося. Привязавши веревку, он подтащил ведро к себе и заглянул, мучимый жаждой.
Кровь.
Страх ударил в голову, весь мир закружил перед глазами, он даже не слышал собственных мыслей. Чрез разум, точно конницей, пронеслось множество разных толкований, в смятенном испуганном порыве топча рассудок. Это его собственная кровь – ему перерезали глотку, а он того и не заметил. Это кровь Гамтуна, многих поколений жителей, стекшая по склонам, дабы в одном подземном водоеме скопиться. Это кровь святых, которую, по словам святого Иоанна Богослова, следует пригубить при наступлении конца света, что наступит через две сотни лет. Это кровь Спасителя, знамение Петру, что сами земля и почва есть плоть Исусова, ибо разве не был пресечен цвет его, дабы взрасти вновь, подобно ячменю и прочим дарам земли? Это сердечные соки внушающего ужас Таинства, алее, чем ягоды падуба, чудо из чудес толикого масштаба, что христианам сей эпохи рано знать о нем, и знать о Петре, ибо воистину благословлен он Господом, раз узрел чудо сие, нетварное явление сие…
Краска.
Как он мог быть таким глупцом? Он же видел яркие ткани, выставленные на улице швецов, однако не задумался, откуда они берутся. Он спустил в колодец ярко-красное ведро, однако счел, что оно раскрашено для непроницаемости, а не обагрено нескончаемым использованием. Все это было ясно как день, разве что не дураку, однако в пылу своем он ослеп и едва ли не канонизировал самого себя. Он твердо порешил не рассказывать о своей постыдной ошибке братьям в Медешемстеде даже ради шутки на свой счет, на счет самовлюбленной глупости и тщеславия, иначе навеки предстанет в их глазах толоконным лбом.
Посмеиваясь теперь из-за того, как ловко его второй раз провел Гамтун, выплеснул он содержимое тары обратно в черное и бурлящее горло, откуда его подчерпнул. Вспомнив о брате Матвее из Питерборо, который писал иллюстрации на манускриптах и немало поверил о ремесле своем Петру, он составил мнение, что, надобно думать, цвет воды получен благодаря железной ржавчине из почвы. Хотя это и не сделает большого вреда, он все равно был рад, что не хлебнул, не заглянув наперед внутрь. Как-никак, красная охра не единственный элемент, красную краску дающий. Был, к примеру, порошок ртути, и на луговой родине братьев-бенедиктинцев он слыхал о монахах, которые облизывали кисточки с остатками красного пигмента, чтобы смочить их и заострить. День за днем монахи, сами того не зная, отравляли свое тело. Сказывали об одном, чьи кости стали толико хрупкими, что, когда возлег он отойти и на него милосердия ради накинули одеяло, под весом переломились все кости его и монах погиб. Правда это или нет, Петру было неведомо, как неведомо, отравлена ли вода в этом колодце, но все одно он чувствовал облегчение, что не стал ее испытывать, иначе нелепый промах мог бы стать роковым.
Теперь, когда испуг сошел и Петр возмог рассуждать здраво, он больше не клял себя как великого глупца. Пускай святая кровь по материальному существу своему оказалась не чем иным, как краской: разве подобно забывать о ее существе идеальном, когда цвет из недр земли не иначе как символ, обозначающий все неземное, а значит, не имеющее мирского обличия? Разве одна вещь не может иметь несколько значений, и то, что по мерилу истины кажется ржавью, по мерилу сердца есть само вино Христово? Прежде он слыхом не слыхивал о колодцах краски такого оттенка, а значит, на деле это чудо, не меньшее, чем жидкость, которую он сперва выдумал. Что бы ни явило знак, это все же знак, и его следовало истолковать.
Когда вновь Петр навьючил на себя поклажу, ему вспало на ум, что он был слишком нерасторопен и робок как в помыслах, так и в поисках. Сторожко обходя Гамтун кругом, Петр видел его лишь фигурой или плоским наброском, начертанными на пергаменте, тогда как сейчас он понял, что в граде больше от живого существа со своими гуморами и телесными соками – не территория, которую меряют шагами, а незнакомец, которого судят по словам. Откроет ли град свою душу, ежели Петр позабудет о настороженности и сдержанности в своем подступлении? Возвращаясь на ведущую к югу колею, задумался он и наблюдал пользу пуститься на восток, мимо одинокого жилища у тропы в само поселение на холме, в путаницу приземистых домов наверху и справа от него, где очаги чадящи чернили облака прокопченны.
Он оставил каменный сарай позади и начал подъем, и тут-то на него нашло ощущение, которое, как он однажды слышал, звалось «виденное допрежь», когда новые обстоятельства приносят с собою чрезъестественное убеждение, что уже пережиты были в прошлом. Заметил он, что не просто знал сей схожий момент, когда уже миновал одинокую хижину, восходя на горы в незнакомом краю. Нет, он не в первый раз очутился именно в этом мгновении во всех его подробностях: бледные малые тени, отброшенные на траву солнцем запеленатым, оставившем зенит позади, и мох, наросший в виде пятерни возле дверного проема немого деревенского дома; звон птичьей песни из темных кустов на западе – вот эти три резкие ноты и затихающий плач; парящий в воздухе свиной запах его собственного пота, бегущий из-под рясы; гудящие гудом ноги, ароматы отдаленной невидимой реки и жесткие узлы мешка, казнящие согбенную спину.
Петр стряхнул с себя наваждение и миновал известняковую груду крофта, подымаясь на холм. Он ничего не видел в темных дырах окон, но столь неизъяснимым ощущением окатывали они, что мимолетно помстилось, будто бы за ним наблюдают. Подлый уголок разума, что вздумал стращать его, сказал, что это все карга с глазами-улитками из сна, сидит сама-одна в тени немой лачуги и блюдет каждое его движение. Хоть это мог быть не более чем фантом, которого он сам себе вообразил на горе, все же обробел Петр и заторопился оставить хутор далеко за спиной. Так, оторвавшись от восточной дороги, по которой он взбирался, Петр пошел наискоски на юго-восток по узенькой тропинке – не более чем бесцветной полоске примятого бурьяна по колено.
Более всего на крофте сердце Петра растравила мысль, что его тамошнее появление мимоходом – не единственное событие, а только одно из многих повторений, так что в разуме возник образ бесконечного ряда Петров, и всякий по отдельности раз за разом проходит один и тот же медвежий угол, и на миг узнает друг о друге и странной оказии их повторений, о том, что мир и время вокруг равно повторяются. Охватили его призрачные ощущения: будто он уже мертв и переглядывает скитания жизни своей, да позабыл только, что это не более чем второе, а то и сотое чтение, доколе не натыкается на пассаж, знакомый описанием хибары на отшибе, песни черного дрозда либо лишайника в виде длани. Мысли эти были для него внове, и посему он сомневался, что умел охватить их во всей полноте. Аки слепец, хватался он ощупью за края их и выступы странные, понимая, что целиком фигура вне досягаемости.
Пока он карабкался по склону и подчинялся повороту тропы снова на восток, Петру вспало на ум, что нашедшая небывалая блажь – дух или миазмы, разлитые в этой местности, и эффект их становится тем паче, чем глубже он внидет. Настроение окрасилось в оттенок, который не умел он назвать, ибо был он словно цвет, смешанный из многих ингредиентов: из страха и благоговения, из радостной надежды, но и печали, и дурных предчувствий, какие ему было неспособно объяснить или описать. Обязанность, явленная в виде мешка из джутовой ткани, точно бы разом и позволяла душе воспарить в ликовании, и так гнула к земле в три погибели, что быть ему переломлену и подмяту под нею. От чувств прекоречивых ощущение его казалось катышком из всех человеческих состояний, вместе взятых, и распирало оно так, что Петр, не ровён час, треснет. Сие волнительное, но неловкое ощущение, наверное, знакомо всем существам, Божье воление исполняющим, заключил Петр.
Он брел по высокой траве и теперь вступил на иную земляную тропинку – она подымалась прямо по холму в том же направлении, что и дорога от колодца красильников, но в стороне. Сей новый путь вел к скоплению жилищ по бокам, похожих на крытые ямы, где промеж смеющихся мужиков и бранящихся баб с выводком детей бродили, принюхиваясь, собаки со свалявшимися шкурами. В самом конце видел он растущие крыши иных зданий, а под ними – множества телег движенье, и так увидел, что лежит там главная площадь поселения. Поодаль на холме, по правую сторону от дороги, посередь низких домов и их населения, топился большой костер на пятачке голой и почерневшей земли. Сюда в волокушах и мешках люди сносили сор, какой не могли пожечь дома из-за его обилия или вони. Он видел, как с повозки вилами мечут грязные ворохи ветоши – чумного тряпья, помыслил он. Была тут и телега золотаря, которую возница под крики и заминки подавал к огню, дабы старикам, зарабатывавшим черной работой на житье-бытье, было легче кидать лопатами навоз в полымя. От жара до небес клокотала мерзкая башня вони и марева, потому как стояло безветрие, но Петр знал, что в иную погоду все сгрудившиеся здесь дома терялись во смрадной мгле.
Думая избежать самой гущи зловония, он сошел с дороги на восток, коль скоро подвернулась небольшая перекрестная улица. По обе руци здесь тоже были хижины, но встречалось не в пример меньше людей и костров. Вдалеке по пологой дороге увидал он широкую соломенную крышу – похоже, что зала общин, замкнутого стенами. Осиянная область небес снова оказалась направо – это значило, что Петр опять шел на юг, но не успел пройти долго, как препятствовала ему очередная помеха. Через несколько времени на его пути вырос двор, а над ним подымалась огромная туча, как на дворе, где жгли отбросы, но как те клубы были черным-черными, так эти оказались целиком белыми. Он увидал повозку, на которую сзади с небольшого взгорка на огороженном клочке грузили мел, и вспомнил о подобной телеге, что пересекла путь его от южного моста этим утром, и поднятую пыль, до сих пор лежавшую на волосах и складках одеяния. Он желал остаться первозданного цвета, какого был, когда впервые вошел в Гамтун, и не краснеть из-за краски или чернеть и белеть из-за окуриваний, так что теперь стоял и озирался, дабы понять, куда править путь дале.
Вновь он был на каком-то углу, и от стези, пройденной только что, вновь на восток бежала улица. Слияние дорог отмечалось горбом посреди площади, с одной стороной короче других. Вкруг площади шла канава, вырытая столь давно, что уж затравенела, как римский речной дозор внизу. Покатый пригорок давал впечатление, что когда-то обладал некой важностью, хотя и не было на нем зданий, а только лишь золотые гроздья одуванчиков, еще в пушистые шарики семян не превратившихся.
Оглянув всхолмье, вдруг увидал Петр переполох у его нижней границы – на стороне, где находился Петр, а значит, меж ним и складом мела. На обочине стала лошадь с повозкой, а за бразды ее держался уродец. Лицо его было широкое, с далеко посаженными глазами, и казался он сильным, но осадистым, будто бы приплющенным. Сидючи на низких козлах, он состоял в беседе с ребенком – девочкой не старше дюжины годков, на земле сбоку окружной канавы переминавшейся и на малого нерешительно поглядывавшей. Казалось, она побаивается его, словно он чужой ей, качала головой и порывалась уйти, и тут приземистый возчик бросился и крепко схватил ее за пухлое запястье, чтобы пресечь побег.
Петру было дано лишь мгновение на раздумья, что предпринять. Ежели это ссора промеж разгневанным родителем и норовистым чадом, он бы возгнушался мешаться, однако не то мнилось Петру, и в скитаниях он повидал немало надругательств, чтобы со спокойною душою отвернуться и льститься надеждою, что все обернется добром само собою.
Будь на то его воля, умел Петр возопить гласом могучим, и даже братья в Медешемстеде, хотя и любили его, не любили с ним маливаться. Этот зычный рев он и пустил в ход теперь, что было мочи, и глас разразился громом по невозделанной земле меж ним и негодяем, залучившим девицу.