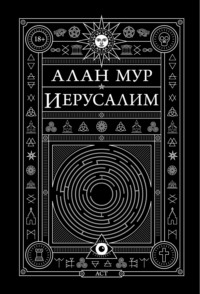
Иерусалим
Кто-то едва не врезался в Бенедикта, извиняясь, хотя виноват явно был сам Бен – встал, разинув рот, и перегородил пол-улицы.
– О-о, прости, мужик. Не вижу, куда иду.
Молодая полукровка, или, как их нынче зовут, женщина смешанной расы, тощая, но приятная, не старше тридцати. Прервав грезы Бена о затонувшем Эдеме, она вдруг предстала настоящей ундиной – по крайней мере в его воображении. Сохранившаяся наперекор одному из родителей легкая бледность кожи, что казалась глубоководным фосфоресцирующим свечением, волосы, расчесанные на полоски веточками кораллов, влажный глянец куртки – все подкрепляло подводную иллюзию. Хрупкая и экзотичная, как морской конек, – теперь Бен уже представлял ее в роли лемурской султанши, с сережками-дублонами с потопленных галеонов. Из-за того, что такая загорелая сирена извиняется перед уродливым, побитым ветрами рифом, на который ее выбросило без спросу, Бенедикт почувствовал себя вдвойне виноватым, вдвойне пристыженным. Он ответил высоким полузадушенным смешком, чтобы успокоить ее.
– А-а, ничего, милая. Все в порядке. Ах-ха-ха-ха.
Ее глаза чуть расширились, а накрашенные жидкие губы – два облизанных леденца – вздрогнули в какой-то судороге. Она вопросительно смотрела на него, но Бену были незнакомы схема рифмовки и стихотворный размер в ее глазах. Что ей нужно? То, что их встрече суждено было произойти на улице, где Бен родился и где оказался по не более чем пьяной случайности, стало опасно попахивать роком. Неужели… ах-ха-ха-ха… неужели она его узнала, каким-то образом разглядела в нем поэзию? Заметила мудрость за нервозностью и пивным дыханием? Неужели это предопределенный момент – блуждая напротив отеля ibis на Лошадиной Ярмарке в лучах вечного солнца с бледными звездами втоптанной жвачки у дверей «Доктора Мартинса», встретить свою царицу Савскую? Маленькие мышцы в уголках ее рта заходили – она готовилась заговорить, что-то сказать, спросить, художник он или музыкант, или даже не он ли тот самый Бенедикт Перрит, о котором она столько слышала. Блестящие, вымоченные в «Мэйбеллине» лепестки наконец разомкнулись, распустились.
– Не хочешь развлечься?
А.
Запоздало, но до Бена дошло. Они не две родственные души, сведенные неизбежной судьбой. Она – проститутка, а он – пьяный дурень, вот так все просто. Теперь, узнав ее профессию, он увидел измождение на лице, темноту у глаз, отсутствующий зуб и дерганое отчаяние. Свою оценку он сместил с тридцати до подросткового возраста. Бедняжка. Надо было сразу догадаться, как только она с ним заговорила, но Бен вырос не в том Боро, который теперь стал нортгемптонским районом красных фонарей; теперь приходилось постоянно напоминать себе о его новой главной функции. Сам он никогда не пользовался услугами проституток, даже никогда не задумывался – не из-за ощущения превосходства, но больше потому, что считал целевой аудиторией ночных бабочек преимущественно средний класс. Зачем парню из рабочего класса платить девушке из рабочего класса, если только не из-за личной некомпетентности или неизбывного одиночества? Ведь с такими, как она, он вырос и в какой-то степени их впоследствии деэротизировал. Бену казалось, что это скорее всякие хью гранты нашего мира считают прилагательные вроде «грубый» или «грязный» возбуждающими концепциями, тогда как он рос в обществе, где подобные слова приберегали для кошмарных кланов вроде О’Рурков или Пресли.
Он почувствовал себя не в своей тарелке, впервые столкнувшись с этой ситуацией, и делу вовсе не шло на пользу растущее разочарование. Какой-то миг он был на грани романтики, прозрения, вдохновения. Нет, конечно, он не верил, что перед ним лемурская султанша, но все же тешил себя надеждой, что она чувствительная и сочувствующая девушка, разглядевшая в нем барда, вилланели и бросовые сестины в его осанке. Но все оказалось ровным счетом наоборот. Она приняла его за очередного одинокого пошляка, романтические устремления которого не простирались дальше дрочки в подворотне. Как же она могла так в нем ошибаться? Ему казалось, он должен донести, как она его недооценила, как это абсурдно – из всех людей увидеть потенциального клиента именно в нем. Впрочем, из-за жалости к девушке и нежелания огорчать ее мыслью о том, как она его задела, он решил передать свои чувства при помощи комедии в духе «Илинга» [42]. Он находил такой подход лучшим почти для всех деликатных или неловких социальных обстоятельств.
Бенедикт исказил резиновую физиономию в викторианском моральном шоке, словно мистер Пиквик при встрече с малолетним уличным торговцем дилдо, затем так могуче передернул плечами в афронте, что сотряслись все внутренности. У девушки к этому моменту вид стал несколько испуганный, так что Бен решил получше подчеркнуть, что его поведение – комичная гипербола. Повернув голову, он обратился от нее взглядом туда, где находились бы телезрители, если бы жизнь на самом деле была шоу розыгрышей со скрытой камерой, как он иногда подозревал, и вместо закадрового смеха захохотал сам.
– Ах-ха-ха-ха. Нет-нет, все в порядке, милая, спасибо. Нет, бог с тобой, все в порядке. Я в порядке. Ах-ха-ха-ха.
Казалось, представление хотя бы лишило ее уверенности, что Бен – потенциальный клиент. Теперь девушка уставилась на него так, словно и понятия не имела, с кем столкнулась. Явно выбитая из колеи, непонимающе сдвинув брови и нахмурив лоб, она снова попытала удачи:
– Точно?
Как ей еще втолковать? Ему что, изобразить весь номер с доской, ведром с краской и кожурой от банана, чтобы она поняла, что он слишком поэтичен для секса за помойкой? Одно было очевидно: тонкость и недомолвки не сработали. Придется расписать в более широких мазках.
Он закинул голову с насмешливым гоготом, представлявшимся ему в духе Фальстафа, – и был бы близок к правде, будь Фальстаф известен как костлявый тенор.
– Ах-ха-ха-ха. Нет, милая, я в порядке, что ты. И все в порядке. Чтобы ты знала, я публикующийся поэт. Ах-ха-ха.
Это сработало. Судя по выражению лица, у девушки не осталось ни малейших сомнений, кто такой Бен Перрит. С застывшей улыбкой она начала отступление, не спуская с него настороженного взгляда и пятясь к Лошадиной Ярмарке – очевидно, опасаясь поворачиваться спиной, пока не отойдет подальше, на случай, если он бросится за ней. Она процокала мимо Дома Кромвеля в направлении вокзала, замерла у церкви Святого Петра, чтобы рискнуть и взглянуть через плечо на Бенедикта. Очевидно, она приняла его за психопата, потому он закатился беспечным визгливым смехом, чтобы ее окончательно переубедить, после чего она прошла мимо церкви и растворилась в толпе возвращающихся с работы людей на Холме Черного Льва. Его муза, его русалка скрылась, напоследок вильнув хвостом и блеснув виридиановой чешуей.
Значит, уже пять. Пять вещей, которые не удавались Бену. Сбегать, искать работу, нормально объясняться, не казаться пьяным и разговаривать с женщинами, если не считать маму или Альму. Лили – она оказалась исключением, она действительно видела его душу и поэзию. Ему всегда казалось, что с Лили можно разговаривать по-настоящему, хотя, оглядываясь назад, Бен мучился от понимания, что по большей части нес пьяную ересь. Наверное, именно поэтому между ними все и кончилось. Выпивка и, если быть до конца честным, настояние Бена, чтобы правила в отношениях с Лили были такими же, что тридцать лет назад устраивали его родителей, Джема и Айлин, – а особенно те, что устраивали Джема. Тогда Бен еще не понял, что все меняется – не просто улицы или районы, но умонастроения; то, что люди готовы терпеть. Он думал, что хотя бы у себя дома сохранит осколок жизни, которую видел прямо здесь, на Школьной улице, где жены переносили постоянное пьянство мужей и почитали за счастье, если их хотя бы не колотили. Он притворялся, что мир по-прежнему таков, и был поражен до самой глубины души, когда Лили забрала детей и продемонстрировала, что он ошибается.
Неловкая встреча Бена с проституткой уже растворилась до слабой тоскливой боли. Его взгляд вернулся к Школьной улице – детскому раю, что захлебывался в собственном будущем, пока вода поднимается день за днем, миг за мигом. Как ему хотелось нырнуть в облицовку по большей части пустеющих офисных зданий и квартир, подняв красные кирпичные брызги там, где пронзит поверхность. Он бы на одном дыхании проплыл сорок лет жизни. Он бы опустился к отцовскому лесному складу и собрал все сувениры, какие сможет, чтобы поднять на поверхность и в современность. Он бы постучал в окно гостиной и сказал сестре: «Сегодня никуда не уезжай». Наконец он бы вынырнул, хватая ртом воздух, из мениска нынешней Лошадиной Ярмарки с полными руками сокровищ, пугая прохожих и стряхивая капли истории с мокрых волос.
Он почувствовал отдаленную потребность в еде. Решил прогуляться домой по Конному Рынку, может, заглянуть в продуктовый на улице Святого Андрея. Вдруг вспомнил, что у него осталось чуть больше пятнадцати фунтов – Дарвин и Э. Фрай, что переплелись в страстном комке где-то в недрах карманов. Хватит на рыбу с картошкой, да еще и на стаканчик вечером, если захочется, хоть он в этом и сомневался. Самое лучшее развитие событий – перекусить и вернуться на Башенную улицу ради экономного домашнего вечера. Тогда на завтра у него останутся почти все деньги и не понадобится терпеть с утра унизительную пантомиму с подачками Айлин. Значит, решено. Сказано – сделано. Приготовившись сойти с места и подняться по Конному Рынку, Бенедикт попытался обуздать блуждающее внимание, заигравшееся где-то в выпотрошенных развалинах улицы Григория. На семиметровой высоте в остатках карнизов опасно зависли одуванчики – робкие самоубийцы с золотыми волосами Чаттертона [43]…
Было одиннадцать тридцать пять. Он вышел из «Синицы в руке» на Регентской площади в пыхтящую, кричащую тьму пятничной ночи. На мостовой Овечьей улицы отражались лужи артериальной крови светофора – оказывается, в какой-то момент прошел дождь.
Бандами по четыре-пять человек опирались друг на друга девчонки в коротких юбках – множество ножек в колготках на пятнадцать ден поддерживали единую структуру, моментами невольно превращаясь то в гигантское хихикающее насекомое, то в подвижную мебель в столь же красивых, сколь и непрактичных чехлах. Парни передвигались, как шахматные слоны с контузией, вальсирующие мыши с Туреттом, их кучки вдруг ударялись то в смертоносное панибратство, то в доброжелательную поножовщину, а ведь еще даже не время закрытия. Здесь времени закрытия не бывает. Постановлением правительства часы продажи спиртного были продлены до бесконечности – якобы чтобы как-то остановить запойное пьянство, но на самом деле чтобы нелепые английские обычаи не мешали дезориентированным американцам. Очевидно, никуда не делись и запойные пьяницы. Просто лишились последних периодов просветления рассудка.
Бен помнил, как пару часов назад ел камбалу с картошкой, а вскоре после этого темный паб – он с кем-то разговаривал? – но в остальном он будто заново родился, выполз из утробы на эту ветреную улицу, в эти канавы, без малейшего понятия, как он тут оказался. Но в этот раз, заметил Бен с благодарностью, он хотя бы не плакал и был в одежде. Может, одежды маловато – зябкий вечер уже начал заползать под бушующий закат его жилета, пробиваясь через пивную теплоизоляцию и вызывая гусиную кожу, – но хотя бы не голый. Ах-ха-ха-ха.
Порыскав непослушными пальцами в карманах, он убедился, что хотя бы в этот раз вероломная шлюха Э. Фрай не оставила Бенедикта ради какого-нибудь невоспитанного кабатчика, который будет ею просто пользоваться, а не любить и ценить так, как Бен. За этой мыслью тут же последовала другая, подкупающая: немедленно заскочить в паб и взять пару баночек на вынос – но нет. Нет, нельзя. Иди домой, Бенедикт. Иди домой, сынок, подобру-поздорову.
Он повернул направо, поплелся по Овечьей улице к огням, где та встречалась с Регентской площадью, – к уродливой штриховке из дорог на месте, где много столетий назад стояли северные ворота города. Тут для украшения насаживали на пики черепа предателей, как ластики-троллей на карандаши. Тут сжигали еретиков и ведьм. В эти дни перепутье в конце Овечьей улицы обозначал только аляповато-лавандовый ночной клуб, а еще год-два назад тут было место готских сборищ под названием «У Макбета», оно пыталось создать готическую атмосферу на углу, который и так по уши сидел в отрубленных головах и вопящих колдуньях. В Ньюкасл со своим углем не ездят, как и в Трансильванию – со своим аконитом. Бен ковылял по всем зебрам, что довели его невредимым к верхней части Графтонской улицы, по которой он принялся нетвердо спускаться. Недалеко впереди метались по кругу синие огни, бились мотыльками об окружающие здания сапфировые вспышки, но его слишком оглушила выпивка, чтобы придавать им какое-то значение.
Он поднял взгляд на крышу автомастерской через дорогу, где до сих пор виднелся рельеф солнечного логотипа прачечной «Санлайт», даже в желто-мочевом свете фонаря, заливавшем все вокруг. Навек застывшее на своем месте, это солнце радостно светило, когда наконец наступил день круглосуточного пьянства, ведь теперь ему и вовсе незачем стало заходить за нок-рею [44]. Бенедикт обратил взгляд на неровные булыжники перед собой и впервые сосредоточил внимание на одинокой полицейской машине на тротуаре впереди – источнике цветомузыки. Там произошла авария – разбитую машину неопределенной модели поднимал за уцелевшую заднюю часть эвакуатор. С оживленной улицы выметали осколки лобового стекла мрачные мужчины во флуоресцентных жилетах, пока из-за них сверкала полицейская машина, предупреждая других автомобилистов. По всему асфальту были щедро разбросаны – видимо, вылетев из распахнувшегося багажника, – таинственные и случайные предметы вроде детских игрушек или садовых перчаток. Опрыскиватели, шапочки для душа и одна-единственная чешка. Стоя у патрульной машины в стробоскопическом свете ее маяка, офицер угрюмо всматривался в расплавленный след шины, видимо, разбитый автомобиль вывернул на тротуар – наверное, чтобы не столкнуться с чем-то на дороге, – где и повстречал стену, фонарь или что-то еще. При появлении Бенедикта молодой пухлый коп оторвался от изучения выжженного рисунка протектора, и Бен с удивлением осознал, что это его знакомый.
– Привет, Бен. Нет, ты только глянь, – офицер, розовые мальчишеские щечки которого раскраснелись от возмущения, обвел рукой крошево стекла и всякую всячину, усеивавшую улицу. – Ты бы пришел полчаса назад, когда медики снимали долбака с рулевой колонки. А самое паршивое – сегодня даже не я должен дежурить.
Бенедикт прищурился на работников, подметающих мусор. Крови он не видел – но, возможно, самое месиво осталось внутри изувеченной машины.
– Понимаю. Несчастный случай со смертельным исходом. Не спрашивай, по ком звонит колокол, а? Ах-ха-ха-ха. Какой-нибудь угонщик-малолетка? – Черт. Он не хотел смеяться, не над трагической же смертью, и тем более не собирался спрашивать, по ком звонит колокол, когда сам только что озвучил предостережение Донна. К счастью, мысли копа были заняты другими делами или он привык и терпел эксцентричную манеру Бена. В каком-то смысле выбора у него не оставалось – его собственная полицейская куртка щербетно-лимонового цвета резала глаз сильнее жилета Бена.
– Малолетка? Не. Не, какой-то мужик под сороковник. И машина – его, насколько мы поняли. Семейная, – он сумрачно кивнул на яркий межпоколенческий хлам, просыпавшийся на улицу из распахнувшегося багажника. – И когда его вырезали изнутри, по запаху не сказать, чтобы пил. Наверное, свернул отчего-то, вот и влетел, – павший духом полицейский как будто чуть посветлел. – Хотя бы не меня послали рассказывать его жене. Если честно, это ненавижу больше всего. Вопли, сопли – ну не мое это. Я тебе отвечаю, последний раз, когда я ходил к чьей-то жене, я чуть не… погоди-ка… – его прервал взрыв помех из рации, которую он отцепил от куртки, чтобы ответить.
– Да? Да, все еще на Графтонской. Уже заканчивают прибираться, так что подъеду через минуту. А что? – повисла пауза, во время которой офицер с личиком херувима без выражения таращился в пространство, затем сказал: – Ладно. Буду, как только закончим с аварией. Да. Да, понял.
Он вернул рацию на место, посмотрел на Бенедикта и скривил рожу, выражая обреченное презрение к своей злосчастной судьбе.
– Очередная шлюшка на дороге Андрея. Кто-то из местных принял ее на время к себе, но мне надо взять показания до того, как приедет скорая. И почему у меня всегда такая непруха?
Бенедикт хотел спросить, неужели его тоже насилуют и избивают, но потом передумал. Оставив удрученного констебля надзирать за уборочными процедурами, Бен продолжил путь вниз по склону, необычно отрезвленный неожиданным разговором. Он свернул на улицу Святого Андрея, думая о проститутке, на которую напали, о человеке, который всего час назад жил себе, ехал домой к семье, даже не подозревая о грядущей смерти. В этом-то и есть ужас реальности, думал Бен: смерть или кошмар могут поджидать в любой момент, а никто об этом не знает до самых последних страшных секунд. Он задумался о сестре Элисон, несчастном случае с мотоциклом, но мысли оказались слишком болезненными, и Бен попытался сменить тему. В процессе ненароком наткнулся на размытое воспоминание о девчонке с панели, которая подходила к Бену ранее, с косичками. Он знал, что это не на нее напали у основания улицы Алого Колодца, но в то же время знал, что с тем же успехом это могла быть и она. Такая же, как она.
Как же Боро скатились до такого? Как они превратились в место, где тех, кто мог вырасти и стать красавицей, музой поэта, каждую неделю насилуют и избивают до полусмерти? Всплеск похищений и сексуальных надругательств всего за одни выходные в прошлом августе – большинство случились в этом районе. Тогда думали, что за преступлениями стоит некая «банда насильников», но зловещим образом выяснилось, что как минимум одна серьезная атака никак не связана с другими. Бенедикт предполагал, что когда подобные вещи случаются с тревожной регулярностью, как это бывает здесь, то предположить организованную деятельность банды или еще какой сговор вполне естественно. Хотя мысль и пугающая, она все же куда лучше, чем альтернатива: что это просто происходит случайно и часто.
Все еще безотрадно переживая из-за наверняка обреченной девушки, встреченной у Лошадиной Ярмарки, и несчастном случае, последствия которого он видел пять минут назад, Бен свернул на улицу Герберт, опустевшую к приближению полуночи. Силуэты Клэрмонт-корт и Бомонт-корт на фоне темного неба цвета «Лакозейда» были черны, как монолиты Стенли Кубрика, телепортированные непознаваемым инопланетным разумом, чтобы разжечь искры идей среди косматых вшивых обезьян. Идей вроде «Прыгай». С его точки зрения теперь даже не было видно то немногое, что осталось от Ручейной школы, – путь загораживал НЬЮЛАЙФ. Под сводом ночи Бен доволочил себя до Симонс-уок, ставшей оранжевой и беззвездной. Свернув налево по брусчатке, обрамленной по краям дерном, ведущей к дому мамы, он, как обычно, впал в раздражение из-за Симонс-уок и отсутствующего апострофа. Если только рядом не жил какой-нибудь местный благодетель по фамилии Симонс – а Бен о таком слыхом не слыхивал, – логично предположить, что название улицы – отсылка к строителю церквей и соборов, норманнскому рыцарю Симону де Сенлису, а в этом случае правильно писать «Симон’с»… ох, какая разница? Всем плевать. Любой умелый пиарщик или шарлатан может что угодно превратить в полную противоположность. История и язык стали такими гибкими, их так расшатали, чтобы подогнать под любые нужды, что кажется, они скоро просто сломаются пополам, и тогда останемся мы барахтаться в море правок безумных боговеров-креационистов и пунктуации безграмотных бакалейщиков.
Топая мимо Олторпской улицы, он слышал из притона плешивого Кенни в конце улицы крикливый смех и странную какофонию, еще более искаженную громкостью. В охровой темени над ночной цементной саванной издавали джунглевый рев двигатели машин. Свернув на Башенную улицу, Бен дошел до дома Айлин, потом еще пять минут хихикал над собой и пытался открыть дверь бесшумно, тыкая ключом в звонок. Ах-ха-ха.
Дома было тихо, все выключено – мама уже легла. Он прошел мимо закрытой двери в переднюю комнату, до сих пор забитую фамильными ценностями для вида, а не для дела, – прямо как на Школьной улице, – и отправился на кухню за стаканом молока перед тем, как подняться наверх.
Его комната – как ему казалось, единственное место на планете, поистине принадлежавшее ему, – терпеливо дожидалась, готовая простить и принять еще раз несмотря на то, как он с ней обращался. Здесь была его одиночная кровать, здесь стоял стол, который он до сих пор со смехом звал письменным, здесь строились ряды поэтов, которых Бен недавно пытался отравить газом. Он уселся на край кровати, чтобы развязать шнурки, но не закончил – уставился на ковер. Все думал о случае на Графтонской улице, а значит, думал об Элисон, ее парне-лихаче, который решил обогнать грузовик без сигналов о негабаритном грузе. Он думал о смерти, как каждое утро спросонья, – только теперь не было надежды, что мрачные мысли развеет первый дневной стакан, ведь последний уже испустил свой гадкий дух под языком Бена. Он остался в комнате наедине со смертью – в своей комнате, со своей смертью, с ее неизбежностью, и ничто его не спасет.
Однажды, совсем скоро, он умрет, станет пеплом или кормом червей. Его остроумие, его существо – все это просто исчезнет. Его не будет. Жизнь продолжится со всей своей романтикой и восторгами, но без него. Он останется в стороне, как на отменной вечеринке, где дали понять, что ему больше не рады. Бена вычеркнут из списка гостей, удалят, словно его никогда и не было. Все, что останется, – пара преувеличенных баек, несколько заплесневевших стихов в уцелевших изданиях малотиражных журналов, а потом не будет и того. Все зря, и…
Оно ударило внезапно – это черное озарение – и выбило из него дух: он привычно думал о смерти, чтобы не думать о жизни. Проблема не в смерти. Смерть ничего ни у кого не просит, кроме непринужденного разложения. Это не в смерти бывают ожидания, разочарования и постоянный страх, что может случиться что угодно. А в жизни. Смерть, устрашающая с перепуганной точки зрения жизни, на самом деле за пределами страха и боли. Смерть, как добрая мать, возьмет все беспокойные обязанности и решения в свои руки, поцелует на ночь и подоткнет теплое зеленое одеяло. А жизнь – испытание, проверка, где надо успеть разгадать, что от тебя требуется, пока она не кончилась.
Но ведь Бенедикт все уже разгадал. Он еще в романтической юности скоропалительно решил, что если ему не быть поэтом, то не быть никем. В то время он и не задумывался об альтернативе – что он вполне может оказаться никем. Но успех, о котором он мечтал в молодости, так и не пришел, и Бен понемногу падал духом. Практически забросил писательство, хотя так сжился с ним, что уже не мог признать, даже перед самим собой, что забросил его. Он притворялся, что бездеятельность – лишь передышка, что он как поле под паром, собирает материал, хотя где-то внутри отлично знал, что собирает только пыль.
Он видел свою роковую ошибку, как в тумане. Ему так не терпелось добиться успеха и одобрения, что он вбил в голову, будто без успеха ты вообще ненастоящий писатель. А в миг этого беспрецедентного просветления он вдруг понял, какой это вздор. Взять Уильяма Блейка, непризнанного и забытого, пока не прошли годы после его смерти, почитаемого современниками за сумасшедшего или глупца. И все же Бенедикт был уверен, что Блейк за свои шестьдесят девять лет ни разу не испытывал и мига сомнений, что он истинный творец. Беда Бена в этом новом и безжалостном свете проста – он дрогнул. Если бы он где-то нашел смелость продолжать писать, – пусть даже каждую страницу отвергнет каждый издатель – он все равно бы мог посмотреть себе в глаза и сказать, что он поэт. И даже сейчас ничто не мешает вновь взяться за ручку, кроме легко преодолимой гравитации Земли.
В эту ночь Бен может изменить все. Надо всего лишь пройти по комнате, сесть за письменный стол и что-то сделать. Кто знает? Вдруг эти строчки обеспечат Бену репутацию. А если и нет, если его стихосложение без практики покажется плоским и неуклюжим, то это будет лишь первый шаткий шаг на тропу, с которой он сошел в горькое и обездвиживающее болото. Сегодня ему дан шанс возродиться. Его пронзила яркая мысль: возможно, шанс последний.
Если он не сделает этого сейчас, если придумает какое-нибудь оправдание – что лучше писать с утра, когда голова свежая, – наверняка он не сделает этого никогда. Будет находить причины откладывать поэзию, пока не станет поздно, пока жизнь не скажет закругляться, пока он не станет статистикой Графтонской улицы, а безучастный полицейский констебль пожалуется, что смерть Бена испортила ему ночь отгула. Бенедикт должен писать прямо сейчас, прямо в этот миг.
Он встал и побрел к письменному столу, спотыкаясь о путающиеся под ногами шнурки. Сел и достал с полки бюро свою тетрадь, со стыдом смахивая ладонью толстый слой пыли, прежде чем открыть на чистой странице. Он выбрал самую жизнеспособную ручку из стеклянной банки на верхней полке стола, снял колпачок и занес липкий мохнатый шарик цвета индиго над голым пергаментом. Просидел так добрых десять минут, с ужасом осознавая, что сказать ему нечего.