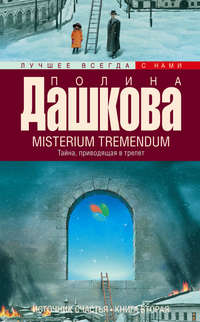
Misterium Tremendum. Тайна, приводящая в трепет
Белая жирноватая спина Кудиярова увлажнилась и покрылась мурашками. Михаил Владимирович опустил фонендоскоп и быстро, украдкой, перекрестился. На самом деле он понятия не имел, кем и какие давались указания товарищу Кудиярову, и давались ли вообще.
Когда он ехал сюда из «Гавра», удивительно сытый, разомлевший после щей, согретый мыслью о том, как сегодня вечером он накормит свою семью настоящей жареной курицей с рисом, в голове у него сам собой сложился определенный план беседы с Кудияровым.
Пора начать наконец торговаться с ними. Прежде всего рассказать о комиссаре Шевцове. Пусть отселят. Потом пожаловаться на Смирнова. Пусть уволят наглого жулика из госпиталя, освободят рабочий кабинет, вернут библиотеку. Достанут микроскоп и много всего другого, что уничтожил сумасшедший комиссар.
«Вы, товарищи, хотите, чтобы я работал для вас над препаратом? Извольте создать достойные условия. Нет, это еще не значит, что я согласен уйти из лазарета, засесть на туманной вершине вашей платоновской пирамиды и обслуживать только вас. Это значит всего лишь…»
Он не успел придумать, что бы это могло значить. Стоило переступить порог гостиничного номера, Михаил Владимирович понял: никакая сила, никакой страх не заставят его жаловаться им, клянчить у них. Довольно того, как усмехнулся Петя в ответ на его вопрос, нельзя ли взять домой курицу с рисом. Этой кривенькой усмешки надолго хватит. Спасибо Пете за нее.
– Гемовикард, три порошка в день, за полчаса до еды. Капли Вотчала перед сном. Настойка пустырника. Спать не меньше восьми часов в сутки. Утром, натощак, принимайте столовую ложку сухой полыни.
– Полынь очень горькая, – заметил Кудияров.
– Ничего, потерпите. Она отлично чистит печень. Можете заедать медом. Два раза в неделю клизмы с английской солью, полстакана на три литра теплой кипяченой воды. Никакого алкоголя, тем более кокаина. В нос закапывайте растительное масло, у вас слизистая в язвах. Жирного, пряного и соленого вам категорически нельзя. Строгая молочно-овощная диета. Половые излишества тоже исключены. Если вы будете вести прежний образ жизни, вас ждет не только инфаркт миокарда, но и слабоумие. Слабоумным не место в замкнутом кругу интеллектуальной элиты, на туманной вершине пирамиды. Вы поняли меня, товарищ чекист?
– Понял, товарищ профессор.
Взглянув в светло-карие, выпуклые глаза Кудиярова, профессор подумал: «Вор, даже образованный, даже при власти, никогда не будет чувствовать себя уверенно. У него, как у насекомого, жесткий скелет снаружи, а внутри он мягкий, влажный. Под доспехами жидкая среда, трубчатое сердце и массивный ненасытный желудок».
– Погодите, профессор, вы не рассказали главного. Как продвигаются ваши опыты?
– Вряд ли стоит говорить об этом.
– Почему же? Я с удовольствием послушаю.
– Слишком сложный, да и преждевременный разговор. К тому же я суеверен. Боюсь, знаете ли, сглазить.
Итогом этого долгого трудного дня, кроме жареной курицы с рисом, были увесистые, по четыре фунта, кульки, один с гречкой, другой с колотым сахаром, да еще две пачки отличных папирос «Зефир».
* * *Москва, 2007
Старик Агапкин говорил четко и медленно, словно читал лекцию ленивым туповатым студентам. Его не заботило, верят ему или нет. Он не обращал внимания на скептические ухмылки своих слушателей. Ему важно было донести до них информацию, а уж как они ее воспримут, их дело.
Иван Анатольевич Зубов считал, что имеет некоторое представление о сектах, экстремистских организациях, мафиозных кланах. Он знал, как часто преувеличивается могущество тайных обществ, их влияние на ход истории и на обычную сегодняшнюю жизнь, как заманчива для обывательского сознания пресловутая «теория заговора» и как удобно бывает манипулировать ею в политике, в бизнесе, в работе спецслужб. Но то, что рассказывал проклятый старик, опрокидывало все прежние знания и убеждения Ивана Анатольевича.
– Они нигде и везде. Они умеют притворяться, что их не существует. В разных странах, в разные века они появляются ниоткуда, исчезают в никуда. Они ловко внедряются во властные структуры, в политические партии, религиозные общины, в профсоюзы, в воровские, спортивные, студенческие, женские и прочие организации. В бизнес, науку, медицину, в средства массовой информации. Им не надо мирового господства, править миром дело слишком хлопотное, утомительное и неблагодарное. У них совсем иная цель. Они крайне редко идут на уголовные преступления. Они действуют незаметно, однако всегда оставляют глубокие следы, страшные, долго не заживающие раны в истории, в сознании отдельных людей и целых народов. При малейшей опасности быть обнаруженными они разбегаются по миру мелкими брызгами и потом вновь стягиваются воедино, как ртуть.
Старик сидел вполоборота. Иногда рука его двигала компьютерную мышь. На экране появилась цветная репродукция старинной картины.
Большая человеческая голова. Верхняя часть черепа прозрачная, как стеклянный купол. Видны мозговые извилины, все очень подробно, тщательно прорисовано. В центре, примерно на уровне переносицы, – нечто вроде недоразвитого глаза. Старик увеличил и приблизил это нечто.
– Мозг нарисован довольно точно, однако настоящий, человеческий эпифиз выглядит иначе. Он значительно меньше и мало похож на глаз. Шишковидная железа изображена тут в виде древнего символа, как рисовали ее на египетских папирусах. Теперь смотрите внимательно.
Старик сдвинул мышь, тронул несколько клавиш. Изображение на миг пропало, а затем появилось и задвигалось. Из символического эпифиза стали вылезать отвратительные белые червячки. Они поднимались, ритмично извивались, словно исполняли танец. У каждого была крупная голова с подобием лица.
– Какая гадость, – тихо выдохнул Петр Борисович.
– По-моему, милые зверушки, – старик остановил кадр, – смотри, какие у них симпатичные, выразительные личики. Собственно, вот так изначально выглядит эта картина. Я оживил ее с помощью разных новомодных компьютерных фокусов. На самом деле это, конечно, не мультик. Картину написал немецкий художник Альфред Плут в 1573 году и назвал «Misterium tremendum». Тайна, повергающая в трепет. Для профанов Плут оставил пояснение, что эти твари представляют собой не что иное, как дурные, грешные помыслы. На самом деле он изобразил именно то, за чем ты, Петр так легкомысленно охотишься. Он наблюдал за ними с помощью сложной системы двояковыпуклых алмазных линз и зеркальных металлических пластинок. Это был прообраз микроскопа, увеличение получалось колоссальное.
Картинка на мониторе опять поменялась. Появился портрет длинноволосого мужчины. Лицо его было грубым, неприятным, лохматые длинные брови нависали над маленькими желтоватыми глазками.
– Альфред Плут, – представил его старик, – художник, алхимик, врач. Автопортрет написан в 1577-м. Здесь ему тридцать, хотя выглядит значительно старше. Обе картины, автопортрет и «Misterium tremendum», хранятся в старой мюнхенской Пинакотеке. Вот почему Софи отправилась в Мюнхен. А теперь внимание!
Картинка сдвинулась, рядом с ней появилась другая. Иван Анатольевич тихо охнул. Эта была фотография, которую прислала Соня. Сходство двух лиц казалось поразительным.
– Фриц Радел, – пояснил старик, – новый знакомый Софи. Он так искренне верит, что является Альфредом Плутом и живет на свете не менее шести веков, что совершенно забыл о пластической операции, которую сделал себе десять лет назад. Конечно, если бы он помнил об этом, ему не удавалось бы столь убедительно морочить головы своей банде. Впрочем, пластика понадобилась совсем легкая. Изменена форма рта и носа. Брови пришлось нарастить искусственно, волосы отрасли сами. Я познакомился с ним, когда он был еще в своем натуральном обличье, но даже тогда он напоминал Плута. Они действительно похожи. Оба фанатики и мошенники, оба безжалостны. Причастность к ордену вообще делает людей похожими друг на друга. Недаром они называют себя братьями.
Старик выключил компьютер, потребовал чаю. Зубов не стал будить капитана-сиделку, сам отправился на кухню, приготовил чай для Агапкина, кофе для себя и для Кольта. Он уже потерял надежду вернуться сегодня домой, поспать, тем более повидать внучку. Петр Борисович пришел к нему, закурил.
– Вань, что ты об этом думаешь?
– Пока не знаю. Надо дослушать его.
– Да. Но только ведь он, подлец, не расскажет все до конца. Намеки, страшилки.
Зубов поставил на поднос чашки, снял турку с плиты.
– Я приеду в Зюльт, поговорю с Соней. – Рука его сильно дрогнула, кофе чуть не пролился.
– Что? – тревожно спросил Кольт, заглядывая ему в глаза.
– Ничего. – Зубов отвел взгляд, аккуратно поставил турку на поднос. – Все нормально, Петр Борисович.
– Она так и не включила телефон?
– Нет. Старик продублировал послания ей и Данилову. Рано или поздно кто-нибудь из них заглянет в компьютер.
– Пока никто не заглянул? Ни она, ни он?
– Пока нет. Но сейчас ночь. Они спят.
Прежде чем продолжить, старик долго жевал размоченное в чае печенье, потом поправлял языком вставные челюсти, наконец допил свой чай и сердито произнес:
– Ладно. Передохнули. Слушайте дальше. В начале двадцатого века они называли себя «бессмертники» и прятались под личиной одной из многих русских сект. Среди разных голбешников, прыгунов, хлыстов, скопцов они занимали довольно скромное место. Им мало уделяли внимания агенты охранки, репортеры бульварной прессы. На фоне скандалов, сексуальных оргий, кровавых ужасов они казались наивными, безобидными чудаками, со своей детской верой в то, что смерть и бессмертие – вопросы личного выбора. Умирает тот, кто боится смерти и не верит в бессмертие. Впрочем, это была лишь очередная обманка для профанов. Они великие мастера камуфляжа. Обилие и разнообразие тайных мистических сообществ – отличный камуфляж. На самом деле хлысты и скопцы просто случайные сборища психов. Антропософы, филалеты, мартинисты, розенкрейцеры и прочая наша масонская братия – взрослые дети, играющие в свои романтические игры. Настоящий тайный орден, неуловимый, неистребимый, – они. Только они. Все прочее – ерунда.
– Хлыстов и скопцов знаю, – сказал Кольт, – о бессмертниках впервые слышу.
– Были и такие, я где-то читал о них, – сказал Зубов.
Старик сердито взглянул на обоих.
– Извольте слушать и не перебивать по пустякам! Я и так устал от вас. До того как назваться «бессмертниками», они несколько веков именовались «сонорхами», а изначальное их имя «Homo Imhotepus». Люди Имхотепа. Это реальный персонаж, Имхотеп, врач, архитектор, алхимик, жил он чудовищно давно, в двадцать восьмом веке до нашей эры, при дворе египетского фараона Джосера. Имхотеп построил первую египетскую пирамиду – ступенчатую пирамиду Джосера. Он бальзамировал тело фараона, он создал первые медицинские школы. В его честь возводились храмы в Мемфисе, в Фивах, в Саисе. «Homo Imhotepus» поклоняются ему, почитают его как первого бессмертного, утверждают, будто он жив до сих пор и перевоплощается в разных загадочных личностей. На самом деле очередным Имхотепом они назначают кого хотят. И в этом главный их фокус.
– Как назначают? Путем демократических выборов, тайным голосованием? – ехидно поинтересовался Кольт.
Но старик не счел нужным ответить, даже не взглянул на него, и продолжал:
– Любая преступная организация, секта или банда сильна до тех пор, пока имеет сильного лидера. Стоит лидеру исчезнуть, и все разваливается. «Homo Imhotepus» каким-то загадочным образом всегда находили правильного Имхотепа. Они владеют приемами тайной науки, которую можно назвать психологической селекцией. Из поколения в поколение они учатся различать и фильтровать людей. Они не устают учиться, переваривают и усваивают все – древнюю жреческую магию, шаманизм, современные психотехники. Каждый раз они выстраивают идеальную человеческую пирамиду. Прежде чем стать очередным камнем в этой конструкции, человек проходит множество испытаний и, если на каком-то этапе оказывается негодным, его уничтожают. «Кадры решают все», вот он, простейший и надежнейший принцип.
– Интересно, ты на кого это намекаешь? – спросил Кольт.
– Догадайся по цитате! – ответил старик.
– Ну, знаете, Федор Федорович, это уж слишком, – не выдержал Зубов, – вы хотите сказать, что Сталин…
– Я все скажу в свое время, – пообещал старик, – если вы оба наконец замолчите.
– Да мы и так молчим, просто уже пятый час утра, а ты еще ничего толком не объяснил, – сказал Кольт.
– Если вам неинтересно, можете уматывать.
– Ладно, не злись.
– Это вы злитесь, не я. Вы злитесь потому, что не хотите напрячь свои ленивые мозги. Вот на это, между прочим, они всегда и делали ставку. На лень, глупость, самоуверенность. Вокруг них темнота и путаница. Но внутри самой структуры все не так уж сложно. Сильные хитрые мерзавцы сбиваются в стаю и рыщут в пространстве и во времени, как бы им не помереть. Их интересует все, что касается омоложения и продления жизни. За многие века у них выработался тонкий нюх. В бесконечном разнообразии ерунды и мошенничества они всегда находят то, что серьезно, что имеет реальную перспективу. Они многие годы охотятся за открытием профессора Свешникова. Вот теперь они попытаются использовать Соню, как когда-то Михаила Владимировича, Таню, Осю, меня. Для каждого у них свои методы. Тобой, Петр, они тоже обязательно займутся. Боюсь, уже занялись. Они не терпят конкуренции.
– И что же они со мной сделают? – спросил Петр Борисович.
– Уничтожат.
– Очень интересно, как им это удастся? Убьют, что ли?
– Нет. Сведут с ума. Им это намного интересней, чем банальное убийство. Они знают разные способы, и опыт у них колоссальный. Я уже сказал тебе – оглядись, профильтруй свое ближайшее окружение. Впрочем, тут я тебе не советчик. Ты сам должен вовремя заметить ловушку, которую они готовят.
– И все-таки я пока не понял, – вздохнул Зубов, – чем же они так опасны, эти ваши бессмертники, сонорхи или – как их там? Гомо-импатентус?
– Очень смешно, – огрызнулся старик, – ха-ха. Вот так состришь где-нибудь, а потом тебя придушат в подъезде, и все будут думать, что это банальное ограбление. Ты, Иван, на то и чекушник, чтобы не улавливать главного. Они опасны именно тем, что вначале их никто не воспринимает всерьез. А потом становится поздно.
– Да, – смиренно кивнул Зубов, – мне уже известно, что я бесчувственный тупица. А вы, Федор Федорович, такой умный, тонкий, так глубоко все понимаете. Вот и объясните мне, глупому, сделайте милость.
– Не хами! – насупился старик. – Ты скажи мне честно, без всяких твоих шуточек, ты в бессмертие души веруешь?
– Допустим.
– Что значит – допустим?! Веруешь или нет?
– Пожалуй, да. То есть скорее да, чем нет.
– Вот, – кивнул старик, – и они тоже – да. Не просто веруют, а точно знают, ибо она для них главный товар. Чтобы стать «Homo Imhotepus», необходимо продать свою бессмертную душу.
– Кому? – хором прошептали Зубов и Кольт.
– Ой, господа, трудно с вами. – Старик сморщился и покачал головой. – Все вам надо разжевать и в рот положить. На этот товар только один покупатель. Сказать, как зовут, или сами догадаетесь? Так вот, ему они душонки и сбывают. Свои в розницу, а чужие иногда оптом. Иначе им никак нельзя. В их деле главное – чтобы не было пути назад. Каждый из них должен быть абсолютно уверен: если он умрет, то совсем. У него только тело, оболочка, и ничего другого.
Иван Анатольевич курил, сидя на подоконнике, смотрел на заснеженную, безлюдную, странно тихую Брестскую улицу. За спиной звучали усталые, приглушенные голоса Агапкина и Кольта.
– Петр, ты должен обеспечить безопасность Сони. Ты втянул ее в это. Сначала меня, потом ее.
– Что значит – втянул? Без меня она бы никогда не узнала, что у нее есть дед, а он, дед, так и не увидел бы внучку и сына своего единственного.
– Про Дмитрия лучше молчи. Он был бы жив сейчас, если бы не твоя бурная деятельность. А теперь его нет.
– Я в этом виноват?
– Ладно, я тебя ни в чем не виню. Но прошу, сделай что-нибудь.
– Что именно?
– Не знаю!
– Иван вылетает к ней. Тебе этого мало?
– Мало. Вчера было достаточно, а сегодня – мало.
Глава седьмая
Москва, 1918
В квартире на Второй Тверской Федор не появлялся больше двух месяцев. Он боялся, что, узнав, кому теперь он служит, Таня и Михаил Владимирович не захотят его видеть. Прощаясь, он мутно, путано объяснил, что так сложились обстоятельства, ему придется переехать, возможно вообще покинуть Москву. Он почти сбежал из дома и оставил их в недоуменной обиде.
– Вовсе не обязательно открывать им все сразу, – говорил Мастер, – вы расскажете потом, постепенно. Такую правду лучше давать гомеопатическими дозами и предварительно подготовить, создать подходящий психологический фон.
Федор чувствовал себя подлецом и предателем, от этого у него мучительно болела голова.
– Поверьте, просто поверьте, – успокаивал Мастер, – пройдет совсем немного времени, и все образуется. Дисипль, не забывайте, я не меньше вашего заинтересован, чтобы между вами и профессором сохранились прежние, добрые, родственные отношения.
Агапкин решился прийти поздно вечером, почти ночью. Звонок не работал. Он тихо постучал. Дверь открыла Таня.
Федор загадал заранее, пока шел в темноте, по грязной заплеванной лестнице черного хода, что, если откроет именно она, все как-нибудь обойдется.
– Феденька, наконец-то! – Она поцеловала его в щеку, погладила по голове. – Где вы были так долго? Почему бросили нас?
Агапкин обнял ее, задохнулся знакомым запахом волос, кожи, застиранного домашнего платья. Он еще раз убедился, что никого, кроме нее, не любит и счастлив только рядом с ней. Он совсем потерял голову, принялся целовать ее лицо, острую скулу, висок, дрожащее горячее веко. Губам стало солоно, он понял, что она плачет, и почувствовал, какая она слабая, хрупкая, почти невесомая и какой он сам мощный, сытый.
– Танечка, простите меня, я не мог раньше, так вышло.
– Ладно, все. Вы здесь, и слава Богу. – Она отстранилась, как будто опомнившись, отступила на шаг, вытерла слезы.
– Где Михаил Владимирович? Как он? – спросил Федор шепотом, с легкой одышкой.
– Спит. Все спят. Электричества нет, не споткнитесь, тут комиссарское хозяйство. Слышите вонь? Комиссар портянки свои не стирает, запихивает в сапоги и оставляет в прихожей.
– Какие портянки? Какой комиссар?
– А, так вы не знаете? Только вы уехали, нас уплотнили. Осторожно, тут пеленки сушатся. Сейчас найду спички. Керосину совсем нет, в ящике, кажется, остался свечной огарок.
– Что значит – уплотнили? – Федор остановился посреди коридора, как раз у закрытой двери гостиной. – Кто посмел? По какому праву?
– Тихо, тихо, не кричите. – Таня прижала ладонь к его губам. – Они проснутся, и будет ужасно. Комиссар товарищ Шевцов расстрелял лабораторию, убил всех крыс, он без своего револьвера даже в уборную не ходит. Он папу чуть не убил, причем, знаете, сначала мы думали, комиссар пьян, у него белая горячка, а потом оказалось – он не пьет вовсе. Он сумасшедший. Его гражданская жена товарищ Евгения истерическая психопатка. Нюхает кокаин, уговаривала Андрюшу попробовать, ходит тут почти голая и все время смеется.
Она говорила быстрым нервным шепотом и тянула Федора за руку, как раз в лабораторию. На миг ему показалось, что она бредит. Как могло такое произойти?
Федор представлял себе, о какой подготовке, о каком психологическом фоне говорил Мастер. Нет, специально никто пугать и мучить семью профессора не станет. Просто в отсутствие Федора кое-что изменится. Им придется некоторое время пожить жизнью рядовых граждан новой России. Им станет тошно, страшно, они смирят свою гордыню, они встретят кремлевского Федора, Федора-чекиста как избавителя, защитника. Они согласятся, что сегодня нет иных вариантов. Это будет первый шаг. Профессор Свешников достаточно разумный человек, чтобы не строить из себя мученика и ради детей, ради внука принять новые правила игры.
«Интересно, что скажет Мастер, когда узнает, что к ним подселили какую-то сумасшедшую сволочь и теперь лаборатория разгромлена, не осталось ни капли препарата, ни одной подопытной крысы, а сам профессор чудом уцелел? Подходящий психологический фон. Просчитались вы, товарищи, просчитались, – думал Федор, оглядывая пустые полки без стекол, голый стол, остов погубленного микроскопа, – неужели придется все начинать сначала? И как после этого вы надеетесь, что он согласится?»
– Папа почти совсем не спит, только вот сегодня час назад заснул вместе с Мишей. Чаю хотите? Да что вы все бормочете? Что с вами?
Таня стояла перед ним, лицо ее было сбоку подсвечено зыбким пламенем свечки.
– Чаю? Да, я совсем забыл. Пирожки с ливером, сахар, манка, папиросы. Идите, Танечка, там большой пакет на кухне, на столе.
– А вы?
– Я сейчас. Не волнуйтесь, ничего не бойтесь. Телефон работает?
– Да. Но аппарат теперь в гостиной, у комиссара. Ему по должности положено. Федор, погодите, куда вы? Он сумасшедший, он сразу станет стрелять.
Дверь оказалась незапертой. Агапкин тихо открыл ее, проскользнул внутрь и тут же закрыл.
Пахло мылом и сладким одеколоном. Просторная профессорская гостиная была залита дымчатым лунным светом, этого света и собственного острого зрения Федору хватило, чтобы увидеть все отчетливо, как днем.
Телефонный аппарат он заметил сразу, у окна, на маленьком бюро. В углу, за ширмой, стояла двуспальная кровать с высокой резной спинкой, на подушках покоились две головы, большая бритая мужская и маленькая белокурая женская. Мужчина похрапывал. Рядом с кроватью, на низенькой профессорской этажерке, на кружевной салфетке, лежал револьвер.
Первой проснулась товарищ Евгения. Она осторожно высунулась из-за ширмы и уставилась на незнакомца в темном костюме, который стоял у окна и тихо говорил по телефону. Трубку он держал в левой руке, пистолет в правой. Товарищ Евгения успела расслышать, что незнакомец диктует кому-то адрес: Вторая Тверская, номер дома и квартиры. То, что комиссарского револьвера на этажерке у кровати нет, она увидела сразу. Перепуганной девушке удалось растолкать комиссара, когда незнакомец уже положил трубку.
Кажется, он не заметил, что товарищ Евгения проснулась. Он сунул пистолет в карман, достал портсигар и спокойно закурил.
– Тихо, это Данилов, белый полковник, – зашептала товарищ Евгения комиссару на ухо, – лежи спокойно, пусть думает, что мы спим. Он тут нелегально, всего боится.
Комиссар первым делом стал шарить рукой по кружевной салфетке.
– Не дергайся, он, конечно, револьвер взял, – шепнула Евгения.
– Убью, гнида белогвардейская! – прохрипел комиссар негромко, но гость его услышал.
– Доброе утро, граждане, – голос его был приятным и спокойным.
– Что вам угодно? – спросила Евгения.
Гость аккуратно стряхнул пепел в пепельницу. Папиросу он держал в левой руке. В правой опять был пистолет.
– На вашем месте я бы не спешил вылезать из постельки, ибо вам теперь не скоро придется ночевать так тепло и уютно. Мне угодно вас арестовать.
– У господина полковника хорошее чувство юмора, – сказала товарищ Евгения и рассмеялась.
Комиссар молчал и пыхтел. Чутье подсказывало ему, что гость не блефует. К тому же без своего револьвера комиссар никогда не орал и не буянил.
Федора слегка царапнуло слово «полковник». Впрочем, он тут же подумал, что на его месте Данилов вряд ли повел бы себя так уверенно и красиво. Появление Таниного мужа здесь было бы огромным риском для всех, и он бы с комиссаром не справился. Разве что пристрелил сгоряча, но чем бы это потом обернулось, представить жутко.
«Появись здесь Данилов, – размышлял Федор, – ему пришлось бы прятаться, молчать и терпеть, стиснув зубы, и исчезнуть поскорей. Как это унизительно. И до чего приятно быть сильным, быть в полном своем должностном праве. Впрочем, я дорого за это право плачу, унижением плачу особенным, глубоким, неизлечимым. Полковнику такая плата не снилась».
– Слышь, ты все ж таки кто будешь, гражданин? – донесся хриплый комиссарский голос.
– Агапкин Федор Федорович. Особый отдел ВЧК.
За ширмой несколько минут шептались. Наконец комиссар спросил:
– А как насчет документика? Документик какой-никакой при вас имеется, товарищ?
– Имеется, да только в темноте вам, гражданин, читать будет затруднительно.
– Ничего, я вот свечечку зажгу.
Заскрипела кровать, комиссар вылез из-за ширмы. Коренастая фигура в кальсонах медленно двинулась на Агапкина. По особенной вкрадчивости движений, по тому, как Шевцов вжал голову и весь вытянулся вперед, стало ясно, что кроме револьвера, который теперь лежал у Федора в кармане, в комнате есть еще оружие, и комиссар надеется до него добраться.
– Стоять! – приказал Федор и щелкнул предохранителем.

