
Пражское кладбище
Пий Двенадцатый робко высказался против расовых преследований в 1939 году. Один только раз: «Пусть властители народов, у которых в руках меч, памятуют, что не должны располагать жизнью и смертью людей по причине их национальности или происхождения, а единственно в силу закона божьего, от Бога же на земле всякая власть». Эта фраза – все, что было сказано Пием XII против уничтожения евреев и цыган, дискриминации африканцев и славянских народов. Риббентроп через посла в Ватикане пугнул папу даже за этот вялый звук: «Проинформируйте его, что Германия не потерпит подобного и найдет способ заставить к себе прислушаться». Пий XII ни разу публично не произнес слово «еврей», слово «нацизм». Немецкому писателю Хохгуту принадлежит часто цитируемая формула: «Никогда в истории такое количество людей не платило жизнью за пассивность всего лишь одного отдельного исторического лица».
Речь об официальной партийной позиции. Конечно, на уровне личностей, простого духовенства, рядовых прихожан порядочных людей было множество, да и героев; мало ли было героев. Мало ли людей в Европе рискнуло жизнью и даже приняло смерть, оказывая помощь уничтожаемым. В Аллее праведников в Яд-Вашеме сколько деревьев шумит листвой в память о них!
А официальная тогдашняя позиция церкви восторга не вызывает. Архиепископ Мюнхена Михаэль фон Фаульхабер высказывался в 1933 году, еще до принятия нюрнбергских «Закона о гражданине Рейха»(Reichsbürgergesetz) и «Закона об охране германской крови и германской чести» (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), но уже при появлении законодательных актов в духе арианства, защиты расы, стерилизации, недопущения браков: «Подобное отношение к евреям, – писал архиепископ, – до такой степени нехристианское, что любой христианин, не говорю уже любой священник, обязан быть предубежден против него». Однако дальше архиепископ развивал свою мысль в немилосердную и циничную сторону: «Тем не менее для церковной среды существуют и более насущные проблемы. Школа и защита католических общин на нашей Родине еще важнее, а поскольку мы имеем основания полагать, и это уже проявляется на практике, что евреи в состоянии постоять за себя сами, следовательно, у нас нет никаких причин давать правительству повод переходить от антиеврейской ненависти к ненависти антииезуитской». С подобными же речами в том же году выступил и архиепископ Линца.
Для глубокого понимания романа «Пражское кладбище» эти исторические факты необходимо знать. И непременно надо знать, как поменялась позиция высшего духовного руководства христианской церкви по вопросу об этой мировой трагедии. В тридцатые и сороковые годы она выглядела как пассивное приятие. А вот к концу семидесятых годов зазвучала совершенно иная огласовка.
Папа Иоанн Павел Второй, сделавший тему памяти центральной темой своего понтификата, начал работу в новой должности с официального посещения Освенцима (1979 г.), побывал в Маутхаузене в 1998 г. и в Майданеке в 1999 г. В 1995 году, выступая с балкона перед толпой, собравшейся на площади Святого Петра, папа торжественно призвал почтить память варшавского гетто и сказал: «Страшная память Катастрофы – ночь истории, в нее вписаны невиданные преступления против Бога и человека». 13 апреля 1986 года – первый понтифик после святого Петра – Иоанн Павел переступил порог римской синагоги и назвал евреев старшими братьями христиан. И что самое существенное, в воскресном «Ангелусе» 14 января 1994 года папа попросил у евреев прощения за «предрассудки и псевдотексты […], послужившие в качестве предлога для долгой ненависти в отношении братьев-евреев», повторив ту же формулу и на торжественной церемонии в базилике Святого Петра 12 марта 2000 года. Войтыла имел в виду под «псевдотекстами» в первую очередь то самое, о чем и это наше предисловие и весь увлекательный приключенческий роман Эко, – тот самый фальшивый текст, из-за которого заполыхал весь планетарный сыр-бор.
Вот, похоже, самое эффективное, чем удастся с этой ползучей дрянью бороться: прямой речью руководителей христианской церкви с высоких трибун. Здесь прямые высказывания уместны. А в романе прямым высказываниям не место. Как и прямой исторической полемике. Трудно передать, сколько было уже за минувший век предъявлено аргументов против этой подделки. Охотник на провокаторов легендарный Владимир Львович Бурцев, один из свидетелей на Бернском процессе 1934–1935 гг. о ложности «Протоколов», выпустил в 1938 г. известнейшую книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог», где все по полочкам разложил, поясняя, что «Протоколы» являются сфабрикованной фальсификацией и не имеют исторической достоверности. За этой книгой были опубликованы еще десятки книг и статей.
Но в ответ появились контркниги и контрстатьи, часто безграмотные, но дико нахрапистые. Если уж даже такие, казалось бы, рассудительные практические люди, как Генри Форд, в своих коммерческих интересах седлали этого опасного тигра! В 1920 году в США Генри Форд спонсировал издание «Протоколов» тиражом пятьсот тысяч экземпляров, опубликовав также в 1920–1922 гг. в газетеThe Dearborn Independent серию антисемитских статей, озаглавленных «Международное еврейство. Важнейшая проблема мира», и писал: «Протоколы вписываются в то, что происходит. Им 16 лет, и вплоть до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации».
В странах, где нет запрета, «Протоколы» выходят большими тиражами и находят благодарных читателей. Разве справишься с этим методом ученого опровержения? Упорно бубня, что ложь – это ложь? Еще поди убеди! Ведь существуют группы обученных азбуке людей, и даже защитивших диссертации и хорошо играющих в шахматы, которым не втемяшишь, что Иван Грозный и Генрих Восьмой – не одна и та же историческая фигура.
Можно сколько угодно доказывать, что «Протоколы» – подделка. Плохо именно то, что любое опровержение работает на рекламу темы. Так устроена массовая информация. Пусть упоминают ругательно, обличают с пеной у рта – лишь бы упоминали. Гитлер писал в «Майн кампф»: «“Франкфуртер цайтунг” постоянно плачется перед публикой, что “Протоколы” якобы представляют собой подделку; это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности». Что еще можно добавить? Полемика против – не прием.
Печатать эту бредятину, ясно, не надо бы. Жаль, однако, что российская государственная цензура наградила титулом правомочного этот лживый и погубивший много жизней текст. В России в январе 2006 года члены Общественной палаты и правозащитники выступили за внесение в законодательство поправок, предполагающих создание списка запрещенной к распространению в России экстремистской литературы, в который были бы включены и «Протоколы». Но по состоянию на январь 2011 года «Протоколы» не включены в Федеральный список экстремистских материалов.
Как же можно переагитировать широкие массы, что сионских мудрецов на свете нет? Да еще в эпоху интернета, когда все, что высказано, становится свято, а высказываться имеет право любой, и писучесть этого «любого» пропорциональна его неграмотности?
Только средствами художественной литературы. Не крича, а высмеивая, реконструируя, развлекая. Задействуя специальные приемы работы с опасными веществами. Без драматизма. Без боязни оказаться понятым превратно.
Эко доверяет своим читателям. Перед ними нет необходимости вопить и бить в набат. Эко привык действовать средствами сильнейшего на свете оружия, которое «металлов тверже» – средствами литературного слова.
Пускай моральное предостережение, заключенное в оболочку романа-фельетона, у Умберто Эко и не широковещательно, не крикливо, но тем громче оно «выстреливает» на причудливом фоне, казалось бы, легкомысленных мелочей, интриг, рецептов, анекдотов и бытовых штрихов. Этому автору подвластны и игристое французское острословие, и британский невозмутимый юмор (вспомним шуточки Вильгельма Баскервильского). Предостережение звучит пусть негромко, ну а смысл сообщения – оглушителен. Так «выстреливает» бесстрастная реплика английского дворецкого, когда в Лондоне потоп и бешеной водой выбивает двери холла: «Темза, сэр».
Елена КостюковичПражское кладбище
Поскольку и отступления важны, и даже они основное в историческом романе, мы включили повешение ста мирных жителей на площади, сожжение живыми двоих монахов, прохождение кометы. Каждое такое отступление неоценимо, оно замечательно отвлекает читающего от смысла.
Карло Тенка, «Дом псов»1. Прохожий, в то серое мартовское утро
Прохожий, в то серое мартовское утро 1897 года переходящий на свой страх и риск площадь Мобер, или Моб, как зовется это место у разного жулья, – в Средневековье это было сердце университетского Парижа, где кишели школяры с факультета свободных искусств, что на Соломенной улице, а потом место казни вольнодумцев, например Этьена Доле, – оказался бы в одном из считанных уцелевших, не снесенных бароном Оссманом средневековых кварталов, в гуще зловонных переулков, пересекаемых рекою Бьеврой, которая тогда еще не была убрана в подземную трубу и бурлила, извиваясь и рыча, на сливе в близко протекавшую Сену. Около площади Мобер, незадолго до того изуродованной бульваром Сен-Жермен, сохраняются старые переулки: Мэтра Альбера, Святого Северина, Галандова улица, Дровяная (Бушри), Святого Юлиана Странноприимца (Сен-Жюльен-Ле-Повр). Переплетаясь, они тянутся до самой улицы Квашни (Юшетт). Все эти улочки в те поры были истыканы сквалыжными притонами. Хозяева их были обыкновенно из Оверни, азартной алчности, и просили за первую ночь по меньшей мере франк, за прочие по сорока сантимов плюс еще двадцать сантимов, если постоялец требовал простыню.
Поверни путник на улицу, впоследствии получившую имя Фредерика Сотона, а тогда, когда происходили события, звавшуюся улицей д’Амбуаз, приблизительно на ее середине, меж борделем, замаскированным под пивную, и таверной, предлагавшей с гадчайшим вином закуску стоимостью в два су (плата уже и тогда посильная для студентов соседней Сорбонны), путник попал бы в закоулочек или тупичок, по нашим сведениям переименованный в 1865 году в Моберов, а в предшествовавшие времена носивший имя Амбуазова тупика и приютивший в себе кабак «тапи-франк», то есть из таких самых разничтожных, что ни на есть отпетых питейных заведений, где хозяйствует какой-нибудь уголовщик, а сходятся там бандиты и ворье. Место это печально известно среди прочего тем, что в восемнадцатом веке там варили свои зелия три знаменитые отравительницы, сами же и задохнувшиеся от смертоносных испарений собственного производства.
В торце тупика неприметное оконце лавки старьевщика объявляло слеповатыми буквами о торговле «хотя подержанными, но пристойными мебелями». При этом стекла, густо и мутно перемазанные изнутри чем-то пыльным, не позволяли видеть ни товары, ни внутренность магазина, поскольку были по двадцати сантиметров в деревянном частом, будто тюремная решетка, переплете. Возле окна располагалась и дверь, постоянно запертая, а рядом со шнурком звонка висела записка, гласившая, что хозяин на минуточку вышел.
Если же – редкий случай – дверь была бы не затворена, вошедший смог бы в неясном освещении разглядеть внутренность трущобы. На немногих и шатких этажерках и на таких же валких столах громоздилось множество безделушек вроде бы и привлекательных, но при внимательном рассмотрении непригодных для порядочного коммерческого оборота, даже если на них указывались бы столь же трепаные цены: фигурные изложницы для поленьев, способные обезобразить любой на свете камин, ходики с облупленной синею эмалью, подушки, в незапамятное время ярко вышитые, цветочницы с ангелками из керамики в трещинах, перекошенные тумбы неопределенного мебельного стиля, ржавая железная записочница, шкатулки, украшенные выжиганием, отвратительные перламутровые веера с китайцами, ожерелье под янтарь, белые валяные шлепанцы с яркими пряжками, украшенными «ирландскими брильянтами» – то есть горными хрусталями, выщербленный Наполеон в виде бюста, коллекция насекомых под расколотым стеклом, фрукты пестрого мрамора, еле различимые сквозь утратившие прозрачность колпаки, кокосы, старые альбомы с непритязательными акварельками (сплошные цветочки), несколько обрамленных дагеротипов (это было время, когда в дагеротипах не было ничего антикварного). Так что ежели посетитель сдуру и польстился бы на эти мизерные рукоделия, из которых любое – последний ломбардный заклад нищенствующего семейства, и приценился бы, подойдя к подозрительнейшей наружности старьевщику, то услышал бы в ответ такую сумму, от которой всякое желание продолжать торги начисто улетучилось бы даже и у самого закоснелого ловца антикварных монструозностей.
Все-таки ежели бы, не удовлетворившись, посетитель, в силу невесть откуда взявшегося права, двинулся через вторую дверь на лестницу, то есть захотел бы пойти на верхний этаж, – тогда раздрызганные винтовые ступени, обычные в подобных парижских домах, фасад у которых не шире собственного дверного проема, скоса лепящегося к тесно приближенным порталам соседских дверей, привели бы его в гостиную, украшавшуюся уже не пошлой кустарщиной, как в нижней лавке, а обстановкой совершенно другого сорта: о трех ногах, и с орлиными головами на этих ногах, ампирным столиком; консолью на крылатом сфинксе; шкафом семнадцатого века; стеллажом красного дерева, приютившим сотню книг в замечательном сафьяне; секретером, называемым «американским», под роликовой крышкой и с кучей ящичков. Перейди он из этой гостиной в спальню, его взору открылась бы прероскошная кровать под балдахином. Рядом на простых стеллажах размещались сервиз севрского фарфора, турецкий кальян, алебастровая чаша, хрустальная ваза. На дальней стене виднелись живописные панно на мифологические сюжеты. Это были два больших холста с изображениями муз истории и комедии. Добавим, что по стенам там и тут был развешан марокканский текстиль и какие-то еще арабские одеяния из кашемира, рядом с пилигримской походной флягой. Еще там стоял старинный умывальник, нагруженный туалетными принадлежностями заботливой выделки. В общем, причудливый интерьер, полный редких и недешевых предметов, что, быть может, не свидетельствовало о продуманном и тонком вкусе собирателя, но, несомненно, выдавало его тягу к бравированию роскошью.
Возвратившись в гостиную, посетитель увидел бы перед окном, через которое мог поступать только самый незначительный свет, потому что света было очень мало вообще в этом переулке, пишущего за столом в халате пожилого человека. То, что удалось бы разглядеть через плечо, мы и читаем сейчас. Время от времени Рассказчик будет сжато пересказывать куски дневника, чтобы Читатель не соскучивался.
Не ждите, что Рассказчик эффектно опознает сейчас же в пишущем известного… Рассказ только начат, и никого известного в нем еще не было. Рассказчику совершенно неведомо, кто этот непонятный текстописатель, и Рассказчик сам интересуется это узнать, как и вы, почтенная публика. Поэтому теперь всем нам предстоит доискиваться и разгадывать скрытые смыслы тех знаков, которые перо повествующего при нас накладывает на бумагу.
2. Кто я?
24 марта 1897 г.
Вовсе и не тянет меня начинать эти страницы, душу на них оголять по велению – проклятие! нет – по подсказке! окаянного немецкого еврея (австрийского вообще-то, но ведь это все равно). Меня – то есть кого? Кто это – «я»? Думаю, ответить можно, перечислив, что и кого любит человек. Так кого люблю «я»? Никаких людей любимых я бы назвать не мог. Люблю поесть. Это да. При одном упоминании «Серебряной башни» («Ля Тур д’Аржан») я весь дрожу. Если это любовь – то вот. Кого я ненавижу? Евреев, ответил бы с ходу. Но моя готовность раболепно потакать австрийскому доктору (а хоть бы и немецкому!) доказывает, что, в сущности говоря, я ничего не имею против растрепроклятых евреев. О евреях я знаю только то, чему научил меня дедушка. Евреи – народ до мозга костей безбожный. Евреи думают, что добро проявляет себя не на том, а на этом свете. Поэтому они желают этот наш белый свет захватить. Все мое отрочество омрачил этот жупел, евреи. Дедушка описывал прозорливые иудейские очи, лицемерием несказанным доводящие людей до посинения. Описывал их нечистые ухмылки, их раззявленные гиеньи пасти, зубы торчком, взоры тяжелые, развратные и скотские, носогубные складки подвижные, усугубляемые ядовитостью, и носы, крючковатые, наподобие клювов южных птиц… Что ж до глаз – о, их глаза! Лихорадочно вращаются в орбитах у евреев их зрачки цвета горелых гренков, знак заболевания печени, где накопилась вся их желчь за восемнадцать столетий. Вокруг зрачков – размякшая кожа нижних век, испещряемая тысячью морщин каждый год, и уже в двадцать лет иудей выглядит потасканным, почти старик. При ухмылке его напухшие веки прижмуриваются, оставляя еле проницаемую щель, и это примета лукавства, как расценивают некоторые, или же гримаса похоти, как утверждал мой дед. Когда я подрос и стал понимать больше, дед добавил еще одну подробность. Евреи, сказал он, мало того что спесивы, как испанцы, неотесаны, как хорваты, алчны, как левантинцы, неблагодарны, как мальтийцы, наглы, как цыгане, немыты, как англичане, сальны, как калмыки, надуты, как пруссаки, и злоязыки, как уроженцы Асти, они еще и прелюбострастники по причине безудержного приапизма, причиненного обрезанием, в чем великое несоответствие между их плюгавыми фигурами и громадностью пещерного тела внутри срамного их недокалеченного выроста.
Мне эти евреи вечно снились по ночам.
Благословение случаю, что я не сподобился наяву знакомиться с ними. Исключая однажды, в юности, ту потаскушку в туринском гетто. Но меж нами и двух-то слов, считай, сказано не было. Второй еврей в моей жизни – вот этот самый лекаришка, не то австрийский, не то немецкий. Я, откровенно говоря, не ощущаю разницы.
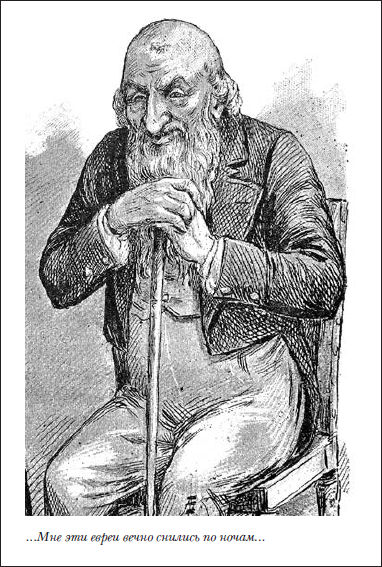
Немцев же я видал и даже делал с ними дела. Они – самая низкая ступень человеческого развития. Немец в среднем выделяет вдвое больше кала, чем француз. Гиперактивность его кишечной функции вредит работе мозга. Тем и объясняется их физиологическая второсортность. Во времена варварских орд пути германских полчищ, как правило, обрастали несоразмерными кучами фекалий. Да и в последующие столетия путник-француз понимал, что перешел за эльзасскую границу, чуть только он встречал из ряда вон выходящие габариты оставленных около дороги экскрементов. Мало того: немцам как нации свойствен повышенный бромгидроз (смердячий пот). Доказано, что немецкая урина содержит не менее двадцати процентов азота, в то время как у других народностей содержание азота в моче не превышает пятнадцати.
У немцев постоянно засоряется желудок из-за безудержного употребления пива и тех типичных свиных колбас, которые они поглощают. Поглядел я на них в свою мюнхенскую поездку. На протабаченные, как английский портовый склад, эти их кабаки… Ни дать ни взять пышные храмы, где вместо ладана сало и шпик. Туда они ходят парами, немецкие херры с их самками, и трясут на высоте пивными кружками (скорее, кадками), которые сгодились бы для водопоя слоновьих стад. И эти пары тварей трясут и чокаются, и снюхиваются, как псы при случке, нос к носу над пеной, лакая с ликованием, и грязно и похабно надсаживаются гортанным хохотом в своем допотопном горлобесии. На щеках и на лицах их бликует масляный пот. Так лучились оливковым маслом тела атлетов в античных цирках.
Это они себе заливают в глотки «Гейст». Вообще-то это слово значит спиритус, спиритуальность, а также духовность. Но в ихнем случае – дух пьяный и поганый, смолоду отупляющий немцев. Чем и объясняется, отчего по ту сторону Рейна никогда не бывало истинного искусства. Разве что несколько картинок с изображением непривлекательных людей и кое-какие стишата смертельной нудности. А уж их музыка! О чем там говорить? Не о трескучем же и замогильном Вагнере, забившем памороки нашим нынешним французам? Мне сказывали, что и у хваленого их Баха творения вовсе лишены гармонии, холодны, как зимние ночи. А уж симфонии, с которыми они носятся, сочиненные Бетховеном, прошу вас, увольте: что касается безвкусия, так это просто апофеоз.
Злоупотребление пивом лишает немцев способности хотя бы в малейшей мере почувствовать свою вульгарность. Наивысшее выражение их вульгарности – что они не стесняются собственной немецкости. Хвалятся чревоугодником Лютером, безнравственным монахом (он призывал жениться на монахинях?), и радуются, что он испаскудил Священное Писание, переведя его на немецкий язык. Кто-то сказал о них, только кто это был – не помню, что немцы дурят себя двумя главными европейскими наркотиками – алкоголем и христианством.
Тщеславятся своей глубиной. А вся-то глубина-то, что язык их мутен, не имеет ясности, как французский, и не выражает того, что полагалось бы сказать. И поэтому ни один германец сам не знает, что он хотел сказать и что сказал. Эта вязкость, по их мнению, – глубина. С немцами, как с женщинами, нельзя дойти до дна. К сожалению, их маловыразительный язык, в котором глаголы, пока читаешь, нервно выискиваешь глазами, потому что они никогда не бывают там, где им следовало бы быть, мне пришлось выучить по требованию деда в раннем отрочестве. Нечему удивляться. Дед все, что мог, обезьянничал с австрийцев. До чего я ненавидел этот паскудный язык, а с ним и иезуита, приходившего учить меня, немилосердно наказывая указкой по пальцам.
После того как Гобино написал о неравенстве человеческих рас, принято считать, что ругают инородцев те, кто провозглашает превосходство собственного племени. Мне такие предрассудки не сродни. С тех пор как я окончательно стал французом (наполовину быв им от рождения, по матери), я осознал, до чего мои новые соотечественники ленивы, кляузны, злопамятны, завистливы, самонадеянны до убежденности, будто всякий, кто не француз, – дикарь, и не способны выносить замечания. Но я и понял, каким образом охмурить француза, чтоб он признал недостатки французской нации. Достаточно при нем сказать, к примеру: «поляки знамениты таким-то безобразием», и, поскольку француз никогда не поступится первенством, он моментально возразит: «ну нет, у нас во Франции много хуже». А дальше как уж понесет своих родных французов, покуда не опамятуется и не скумекает, что это его таким манером одурачили.
Француз не поможет ближнему, даже когда ему это выгодно. Кто неучтивей французского трактирщика! Он с виду ненавидит посетителей (и на деле тоже) и желает, чтоб они провалились сквозь землю (на деле не вполне так, ибо француз еще и ужасно меркантилен).Ils grognent toujours. Они брюзжат. Попробуйте спросить о чем-то – выпучат губы: sais pas, moi, препохабно, будто газы выпустят.
Французы злы. Они убивают шутя. Они единственные, кто несколько лет подряд для потехи рубили головы друг другу. Счастье французов, что Наполеон поворотил их злобу на иноплеменников и всех погнал уничтожать Европу.
Они кичатся государством и хвалят его мощь, но сами заняты сотрясением устоев государства. Никто не перещеголяет французов в искусстве строительства баррикад по поводу и без повода, сплошь и рядом не зная зачем. Они выходят на улицы по призыву какой ни попадя наихудшей канальи. Француз не очень понимает, чего ему надо. Он знает только одно: то, что есть в наличии, не по нем. Чтоб выразить протест, француз поет.
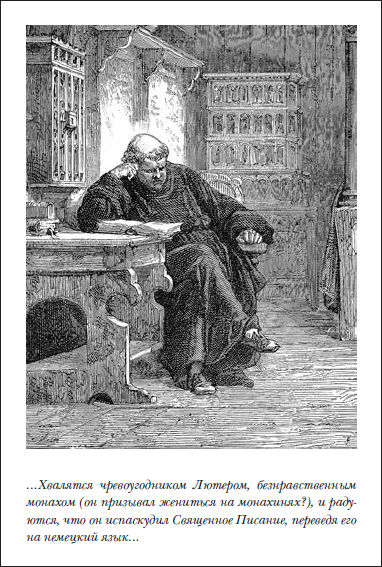
Французы думают, что все на свете разговаривают по-французски. С десяток лет назад произошла история с одним таким Люка. Большого таланта был человек, три тысячи документов подделать сумел, и все на настоящей старой бумаге. Пройдоха выстригал чистые форзацы томов в Национальной библиотеке. Он навострился воспроизводить почерки, хотя и хуже, чем умею это делать я. И продал таких бумаг огромное количество за невообразимые цены этому недоумку Шалю… Серьезный математик, говорят, и член Академии наук, но, как мы видим, совершеннейший тютя. Не только Шаль, но и другие высокоученые академики приняли за чистую монету письма знаменитых личностей, Калигулы, Клеопатры и Цезаря, написанные по-французски! Равно как и переписку на французском языке между Паскалем, Ньютоном и Галилеем! А между тем даже школьникам известно, что в старину образованные люди переписывались на латыни. Ученые мужи, академические старцы не ведают, что у других народов в заводе были и иные языки, помимо их ненаглядного французского! Но из поддельных писем Паскаля вытекало, будто он открыл всемирное тяготение за двадцать лет до Ньютона: ну, и этого с походом хватило, чтобы обмишулить сорбоннцев, отуманенных патриотической спесью.
Возможно, невежество развивается в них от скупости. Скупость – национальная чума, которую они зовут добродетелью и уточняют: «не скупость, а бережливость». Только во Франции могли посвятить целую комедию скупому. И не будем забывать также о папаше Гранде.
Скаредностью дышат их пыльные квартиры, где никогда не меняют обои, а тазики наследуются от прабабок. Корыстность и мелочность французов видна и по их деревянным закрученным лестницам с непрочными ступенями – во что бы то ни стало экономится пространство. Ежели привьют, как, случается, прививают черенок к дереву, к французам еврея (предположим, немецкого еврея), то получится именно то, что мы сейчас имеем в наличии. Получится Третья республика.