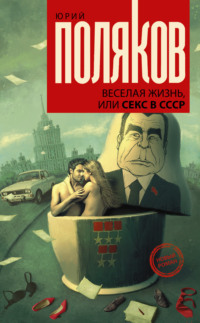
Веселая жизнь, или Секс в СССР
– Есть.
– Какой?
– Застрелиться.
– Да пошел ты! Стой! Никуда больше не уходи! Вернется Крыков – сразу проведем планерку.
Толя величаво кивнул и удалился, а я вернулся к гранкам, но тут в кабинет заскользнул Макетсон.
– Можно? – он кивнул на мои сигареты.
– Конечно, Борис Львович.
– Георгий Михайлович, я утром был там… – Ответсек неторопливо закурил и пустил струю дыма вверх. – Они очень озабочены ситуацией с Ковригиным и рассчитывают на вас! – Он пристально посмотрел мне в глаза. – Вы понимаете?
– Не очень.
– Попробую объяснить…
Год назад Макетсона, как бывалого журналиста, привлекли к работе над сборником «Чертополох предательства» – о советских диссидентах. Сначала его вызвал главный редактор «Политиздата» Карл Сванидзе, папаша нынешнего Сванидзе, а потом пригласили на Лубянку – поговорить. Львович вернулся окрыленный, вскоре его командировали в одно из образцовых исправительных учреждений Мордовии. Там Макетсон под диктофон побеседовал с раскаявшейся активисткой Гельсингфорсской группы Зоей Кацман: взамен ей обещали досрочное освобождение и выезд на историческую родину. Львовичу удалось разговорить смутьянку, сказались близость по «пятому» пункту и дальние родственные связи. Зоя поведала ему грязную изнанку правозащитного движения, упирая на беспорядочные половые связи, царившие среди борцов за вашу и нашу свободу. Будучи в юности недурна собой, она участвовала в подпольных семинарах и дискуссиях в качестве приза, даже гордилась тем, что поощрительно легла однажды в постель с весьма неказистым автором доклада об обреченности социализма. В подполье Зоя попала буквально с университетской скамьи во многом под влиянием бабушки – несгибаемой троцкистки, десятилетия прикидывавшейся сталинисткой, а после ХХ съезда – ленинисткой. Дело вот в чем: когда красные подошли к Одессе, прадед Кацман, крупный хлеботорговец и купец первой гильдии, старшего сына отправил в Стамбул, где имелась заграничная контора фамильной фирмы, младшего определил в одесскую ЧК: не бросать же без присмотра дом на Дерибасовской и пакгаузы в порту. Сам же он, когда зашатался НЭП, отбыл на покой в Москву к дочери, которую заранее пристроил в Концессионный комитет к Троцкому – шустрому племяннику своего компаньона по оптовой хлебной торговле. Годы совместной работы с «львом революции» навсегда запали в пламенное сердце бабушки, поделившейся своим жаром с внучкой.
Беседу с раскаявшейся диссиденткой под названием «Совесть пробуждается» опубликовали в «Труде». Однако отпущенная на свободу, Зоя, едва сойдя с трапа самолета, доставившего ее в Вену, объявила, что злополучное интервью у нее вырвал чуть ли не под пыткой матерый агент КГБ, умело игравший на ее национальных и женских чувствах. Бедняжку пожалели, оставили жить в Австрии, назначив большое пособие как жертве тоталитаризма.
После Мордовии Макетсон сделался гордо-задумчивым, стал еще дольше засиживаться в Пестром зале, попивая кофе и беседуя с мыслящими литераторами о политическом моменте. Иногда особым жестом он доставал из бокового кармана бумажник, где в одном из отделений хранилась вырезка из «Венского телеграфа». Статья называлась «Зоя Кацман – жертва психологического садиста из КГБ». В поведении Бориса Львовича появилась брутальная тайна, на которую так падки дамы, и Синезубка, прежде лишь посмеивавшаяся над его робкими ухаживаниями, не устояла. С тех пор ответсек стал часто отпрашиваться с работы, заходил ко мне в кабинет и сообщал:
– Мне надо – туда! – и показывал пальцем вверх. – Вызывают…
Я пожимал плечами. Кто же не отпустит сотрудника «туда»? Иногда Львович опаздывал или вообще не являлся на работу, звонил и важно объяснял: его срочно привлекли в качестве консультанта по закрытой теме. Как-то Макетсона снова послали в Мордовию, явился он через неделю, загорелый, словно побывал в Крыму. В те же дни взяла бюллетень Синезубка и тоже явилась на работу посмуглевшей. Меня, конечно, все это злило, но приходилось терпеть: КГБ все-таки…
Борис Львович курил, ходил по комнате, говорил загадками и намеками:
– Георгий Михайлович, вы понимаете, что втянуты в большую политическую игру?
– Понимаю.
– Кстати, меня снова вызывают туда.
– Вы же были там недавно?
– Наверное, хотят посоветоваться.
– С вами?
– Что вы так удивляетесь? Не волнуйтесь, я дам о вас лучшие отзывы и рекомендации. Не переживайте! Думайте о чем-то хорошем. У вас есть аквариум?
– Нет.
– Напрасно. Впрочем, с рыбками много возни. Заведите, как я, кактусы. Вы не представляете, какая это красота! Жаль, вы не видели мою оранжерею! Скоро зацветет эбнерелла. Это божественно!
– И когда вас вызывают «туда»? – спросил я.
– Прямо сейчас.
– А планерка?
– Проведем завтра. Номер в целом сложился.
– А макеты?
Борис Львович посмотрел на меня с насмешливым удивлением. В самом деле, что такое макеты в сравнении с государственной безопасностью?!
– Ладно, идите!
Через пять минут в окне мелькнули модные Машины сапожки, а рядом с ними – медвежьи мокроступы хромого ответсека. В молодости он увлекался мотоспортом и, поднимаясь на «Хорьхе» в горы, кажется, на Казбек, сорвался и переломал ноги. Кости срослись, но остались хромота и чувствительность к переменам погоды. Сапожки и мокроступы спешили явно не в «контору», а в свободную от материнского пригляда квартиру. Право слово, торопиться следовало: растущий живот Синезубки обещал вскоре осложнить счастье взаимного обладания.
21. План «Зашибись!»
Нет, жизнь не напрасна, покудаТоропится рюмка к устам,Пока есть пустая посуда,Которую встану и сдам…А.Боба вернулся с «андроповкой», половинкой «бородинского» и двумя плавлеными сырками «Дружба».
– Вот суки! – с порога выругался он.
– Что там еще такое?
– Не хотели бутылки принимать. Тары у них нет! Но со мной такое не проходит. Спросил: а по восемь копеек за горлышко возьмете? Тара сразу нашлась. Я повернулся и – на выход. Кричат: «Вы куда, молодой человек?» А я им: «В народный контроль. Скоро вернусь!» Догнали, валялись в ногах, взяли по двенадцать копеек все до одной, даже щербатые, и нашли в подсобке «андроповку». На витрине не было.
– Ну, ты даешь!
– Социализм, экселенс, – строй неплохой, но им надо уметь пользоваться!
– Наливай!
– Ты же сказал – после планерки.
– Планерка завтра. Макетсона вызвали в контору.
– Врет! Машку повез петрушить.
– Ясно – врет.
Крыков сорвал с горлышка «бескозырку» и разлил по стаканам. Я тем временем порезал хлеб и плавленые сырки. Чокнулись – организм сначала содрогнулся от непрошеной водки, но вскоре благодарно потеплел в ответ.
– Так что ты говорил про ремонт? – спросил я, жуя корку с пряными ядрышками кориандра.
– У меня есть план «Зашибись!».
– Что за план?
– Могила?
– Могила, – пообещал я.
Мы еще выпили. Первая рюмка встретила вторую как родную. Оказалось, Боба услышал разговор про то, что на даче Папы Литфонд делает срочный ремонт, так как в Москву едет знаменитый американский драматург Артур Миллер, один из мужей Мэрилин Монро. В программе значилось чаепитие у коллеги в Переделкине. Выбрали, конечно, Палаткина, но разве можно принимать иностранца на казенной даче, где линолеум протерт до дыр, а в «удобства» страшно зайти. Дали команду, и литфондовские мастера бросились приводить интерьер в порядок, чтобы не позорить СССР перед человеком, имевшим, хоть и недолгое, касательство к красотам великой блондинки.
И Бобу осенило! Он стащил в правлении бланк. Сделать это совсем не трудно, так как секретарша Мария Ивановна за обедом всегда пропускала несколько рюмочек, после чего всех визитеров, включая классиков советской литературы, называла «зайцами», а за бумагами вообще не следила. Как-то пропало письмо Брежнева, где он тепло благодарил московских писателей за высокую оценку его «Малой земли». Нашли в корзине. Марию Ивановну страшно отругали, она неделю за обедом не притрагивалась к спиртному, но вскоре все пошло по-прежнему.
На украденном бланке Крыков навалял официальное письмо на имя начальника Райремстройжилуправления. Боба вынул из кармана мутный четвертый экземпляр и с гордостью предъявил. Что и говорить, бумага была составлена виртуозно, по всем правилам советского канцелярского искусства:
Уважаемый, допустим, Иван Иванович!
В конце сего года в Москву по приглашению Союза писателей СССР прибудет знаменитый английский драматург сэр Теннеси Уильямс, который в рамках программы, утвержденной Министерством культуры СССР, ЦК КПСС и курирующими органами, посетит в домашних условиях одного из ведущих советских драматургов. Эта ответственная миссия возложена на молодого автора Роберта Крыкова, проживающего во вверенном Вам районе, по адресу: улица Качалова, дом 14, квартира 35. Однако особая комиссия Союза писателей СССР признала состояние помещения порочащим нормы советского быта, а также бросающим незаслуженную тень на всю нашу социалистическую явь. В связи с этим настоятельно просим Вас до 1 декабря с. г. провести полный ремонт вышеозначенной трехкомнатной коммунальной квартиры с радикальной заменой сантехники, агрегатов отопления и паркета. Надеемся на Вашу гражданскую сознательность и партийную ответственность. По всем частным вопросам обращаться к Крыкову Роберту Леонидовичу. Дом. телефон: 291–18–56.
С уважениемМ. М. Палаткин,Секретарь СП СССР,лауреат Ленинской и Государственной премий– Думаешь, сработает? – засомневался я.
– Или! Умные люди только так ремонты и делают. Уже звонили. Просили отсрочки до января, когда выделят фонды. Но я им сказал: ноябрь, иначе обращусь в курирующие органы.
– Куда?
– В КГБ.
– Убедительно. Но Теннеси Уильямс, кажется, умер.
– Какая разница?! Они все равно его не знают.
– А графиня?
– Положу в больницу. Уже договорился. Ну, за светлое будущее! – Он налил еще.
Действительность окрасилась в нежные пастельные тона. В кабинет, открыв дверь ногой, зашел Торможенко и хлестнул на стол, как козырного туза, «собаку» с информашками: все они начинались теперь словами:
«Днями в ЦДЛ состоялись…»
– Пойдет? – спросил он.
– Пойдет, – капитулировал я, поняв, что сопротивление бесполезно.
Толя, не спросив, вылил оставшуюся водку в стакан, выпил, не чокаясь, крякнул, смел последние кусочки сыра «Дружба» и пошел к выходу.
– А спасибо, жлоб? – возмутился Боба.
– Плачу славой. Вы еще в мемуарах напишете, как со мной водку жрали! – не оборачиваясь, бросил тот.
Мы переглянулись и промолчали. Боба предложил снова сбегать в высотку. Перед тем как согласиться, я глянул на часы и обомлел: половина шестого, а мне забирать Алену из детского сада. Общественным транспортом в конце рабочего дня добираться до Орехова-Борисова больше часа. Схватив портфель, я ринулся к выходу.
– Экселенс, я хотел тебе дорассказать…
– Потом.
Тут на моем столе зазвонил телефон.
«А вдруг Лета?» – Я воротился от двери и снял трубку.
– Жор, хорошо, что ты на месте! – выплаканным голосом произнесла Арина. – Срочно к Владимиру Ивановичу!
Проклиная свою дурацкую мечтательность, я помчался в партком. В тамбуре Клуба висело свежее объявление. Строгие красные строки, выведенные плакатным пером, оповещали:
За антиобщественное поведение члену СП СССР Перебрееву А. Н. запрещено посещение Дома литераторов в течение месяца.
ПравлениеЯ бросил куртку Козловскому, спросив на бегу:
– Газету покупают?
– Слабенько. Гвоздя в номере нет, – ответил он мне вдогонку.
Тихий поэт Перебреев как ни в чем не бывало сидел в баре и пил водку с соком. Рядом грустила известная поэтесса Анна Кошарина, недавно шумно порвавшая со своей многолетней возлюбленной – еще более известной поэтессой Региной Черкасовой, секретарем правления. Анне достоверно донесли, что на Днях литературы в Вильнюсе Регина утром вышмыгнула из номера грузинского прозаика Вово Эбанаидзе. Взбешенная Кошарина подкараулила Черкасову, когда та привела на обед в Дубовый зал делегацию вьетнамских писателей, маленьких, как дети-герои, подскочила и с горькими упреками на глазах опешивших вьетконговцев надавала ей пощечин. Анну тоже хотели лишить на месяц права посещения ЦДЛ, но потом учли ее личную драму и только пожурили, пожелав утешиться в надежных мужских объятиях. На заседании правления седой стихотворец Бездынько мечтательно вспомнил:
– А я-то в свою первую жену из наградного «маузера» стрелял.
– Попал?
– Патрон перекосило.
Когда я проходил мимо бара, Анна остановила меня жестом. Мы были знакомы: лет пять назад она возглавляла нашу комсомольскую организацию.
– Гера, угостите сигаретой!
– Да, конечно, вот…
– Спасибо! Не курите «Стюардессу», могут плохо подумать. И учтите, вас втягивают в гнусное дело. Будьте осторожны и никому не верьте! – Сказав это, она огляделась, будто за ней следили. – Никому не верьте, но особенно этой суке Регине!
В приемной тосковала над протоколами Арина. Из-за толстого слоя пудры она напоминала лицом маляршу, белившую потолок.
– Как дела? – с вымученной бодростью спросил я.
– Звонил Ник.
– Вот и хорошо!
– Сказал, что сегодня ночует у родителей.
– Не страшно. Осознает и соскучится. Ты главное – повторяй: ничего не помню.
– Зато Ленка Сурганова все помнит.
– А ты не помнишь – отсутствовала.
В алькове меня ждал хмурый Шуваев. На столе перед ним возвышалась стопка одинаковых красных папок с черными тесемками, аккуратно завязанными бантиками.
– Ну, попали мы с тобой, комсорг…
– Еще что-то случилось?
– Куда уж больше! На вот – почитай! Только что доставили. Оттуда.
Он протянул мне верхнюю папку. Никаких наклеек или надписей на ней я не заметил.
– Что это?
– «Крамольные рассказы», мать их так! Прочтешь и вернешь завтра в четырнадцать тридцать. Не опаздывай, как сегодня! В пятнадцать ноль-ноль у нас Ковригин. Перед этим надо еще мнениями обменяться с членами комиссии. Приходи пораньше.
– А кто члены?
– Завтра и узнаешь. Нет, ну что за человек? Собрание сочинений? Пожалуйста, Алексей Владимирович! На три месяца в Англию? Ради бога, Алексей Владимирович! Квартиру в Лаврушенском? Получите! Что тебе еще, сукин сын, надобно? Советская власть теперь добрая, незлобивая, пиши, как хочешь, только в электричках не разбрасывай… Ты же свои повести не разбрасываешь?
– Не разбрасываю…
– А его рукопись была в свежую немецкую газетку завернута. Такую в киоске «Союзпечати» не купишь. Из посольства. Уловил?
– Да ну?
– Вот тебе и «да ну»! Понял теперь, почему чекисты завелись?
– Теперь понял.
– Ладно. Читай, смекай, делай выводы и не повторяй чужих ошибок. Рассказы никому не показывай, ни одной душе, даже жене.
– Конечно. За кого вы меня принимаете?!
– За живого человека. Копий не снимать ни под каким видом! Строго предупредили: все экземпляры пронумерованы и учтены, бумага меченая. Твой экземпляр… – он заглянул в папку, – пятый. Иди, комсорг, завтра у нас с тобой трудный день.
Я схватил папку и рванул к двери, понимая, что в детский сад уже почти опоздал.
– Назад! Вот здесь чиркни!
Пришлось вернуться и поставить закорючку на машинописной расписке, гласившей, что я, такой-то, получил на ознакомление комплект документов для служебного пользования категории секретности «Б» на ста четырнадцати страницах, каковой обязуюсь вернуть в указанный срок.
– Вот такие мы с тобой, Егор-помидор, бумажные душонки! А иначе нельзя. Государство, мил человек, на секретах и циркулярах держится. Я когда еще до Молдавии в Казахстане работал, у нас случай был. Главред областной газеты инструктивное письмо ДСП по пьяному делу потерял. Знаешь, что с ним сделали?
– Расстреляли?
– Хуже! Велели жениться на уборщице, которую он по первомайской оказии спьяну обрюхатил и отнекивался. Вот уж страшна была девка! Тохтамыш в юбке. Она ему сразу тройню родила. Один на него похож, остальные – чистое татаро-монгольское иго! Умела партия наказывать. Ну, иди!
Пробегая по Пестрому залу, я увидел Андрюшкина и Продольного, они сидели за столиком, обнявшись над пустым графинчиком, и тихо пели:
Вы слыхали, как поют дрозды,Нет, не те дрозды не полевые…Выдранный зубами клок замшевого пиджака был грубо пришит через край.
А дрозды, волшебники-дрозды,Певчие избранники России…22. Домой!
Не пролезть рвачам и лежебокамВ коммунизм, который – наша цель.С удовлетворением глубокимУтром – в цех, а вечером – в постель.А.От «Баррикадной» до «Пушкинской» я доехал в тесноте, но не в обиде. Зато в узком переходе на Горьковскую линию пришлось потолкаться, а в вагон удалось втиснуться с третьей попытки, пропустив два набитых до отказа состава. Несмотря на давку, почти все пассажиры читали – книги, журналы, даже газеты, сложив полосы осьмушкой. Прижатый к дверям, я с трудом извлек из портфеля красную папку и умудрился открыть, развязав тесемки. Пропустив предисловие, я начал первый рассказ. Автор и его подруга купили за городом кулек вишен, и она, так как он вел машину, клала ему ягоды прямо в рот, не забывая о себе. Писатель поначалу умилялся, но потом заметил: дама-то себе выбирает ягоды получше, а ему поплоше. Тут и кончилась любовь, больше с этой эгоисткой он не встречался.
«Боже мой, из-за такой ерунды человека на партком тащат!» – мысленно возмутился я и заметил, что несколько притиснутых ко мне пассажиров косят глаза в мои засекреченные странички. В ту пору по рукам ходило немало отксеренного «самиздата» и «тамиздата», а проезжим людям интересно, каким именно запретным плодом балуется случайный попутчик. Заложить – не заложат, а неприятно, словно кто-то за твоей личной жизнью подглядывает. Помня наказ Шуваева, я спрятал папку и стал сквозь стекло наблюдать, как в мятущейся полутьме тоннеля извиваются, сплетаясь и разбегаясь, силовые кабели. Казалось, электропоезд мчится, спасаясь от стаи черных и белых летучих змей.
Из головы у меня не шла крыковская затея. Самое смешное, что эта афера могла удаться. В СССР верно составленная и по назначению отправленная бумага творила чудеса. Моя бабушка Анна Павловна с дочерью, моей теткой Клавдией, обитали в коммунальной квартире на Чешихе, а точнее, в Рубцовом переулке, идущем от Большой Почтовой улицы к Яузе. Отец был прописан там же, но жил с нами – сначала в заводском общежитии на Бакунинской, а потом в Бабушкино, где мать получила от Маргаринового завода «двушку». Предлагали в Мытищах «трешку», но тогда терялась московская прописка, а «лимитчики» за нее годами ишачили на вредном производстве или женились черт знает на ком.
Чешиха – страшное место: по слухам, там даже октябрята ходили с финками и кастетами. Впрочем, я часто навещал родню, уезжал порой поздно, и меня только раз остановили пацаны, попросили сигарету и, узнав, что я не курю, всего-навсего дали в глаз. Так вот, моя тетя Клава страдала душевным заболеванием, возникшим на почве сильного испуга. Будучи девушкой, она шла после вечерней смены с ткацкой фабрики, и на нее напали хулиганы. Что там случилось на самом деле, семейное предание умалчивает, но замуж тетя потом так и не вышла, мужчин чуралась, даже не заглядывала в ванную, когда бабушка меня мыла, а только просовывала полотенце в дверь. По выражению отца, «Клавка почуднела», а с возрастом и вовсе сошла с ума. В итоге диагноз: шизофрения. Ей как душевнобольной по мудрым советским законам полагалась отдельная квартира: мало ли какая дурь придет в нездоровую голову, а рядом невинные соседи. Тетку поставили на учет и записали в специальную жилищную очередь, которая почти не двигалась. Шли годы, в разговорах взрослых постоянно всплывали одни и те же странные слова: «ВТЭК» и «врачиха Хавкина», которая якобы из года в год отдавала отдельную квартиру, положенную тетке и бабушке, своим дружественным психам.
Став студентом, прошу заметить, первым в нашем клане человеком, покусившимся на высшее образование, я решил помочь родне. Как-то раз, навещая мою 348 школу, я поделился бедой с директором Анной Марковной Ноткиной. За глаза мы звали ее «Морковкой». Она меня любила, даже ходила со мной сдавать вступительные экзамены в пединститут: а то ведь завалят, сволочи, гордость школы. Морковка выслушала мой рассказ очень серьезно, потом, поразмыслив, молвила:
– Гоша, я тебе помогу. Но ты должен все сделать так, как я скажу.
– Сделаю. Но что?
– Приближается съезд партии…
– И вся страна встала на трудовую вахту… – подхватил я с иронией.
– Не зубоскаль, а лучше записывай! За три дня до открытия съезда в общественной приемной на улице Куйбышева начнут принимать заявления трудящихся. Ты должен сдать свое письмо на имя съезда в первый день, до обеда. Понял? До обеда.
– А если позже?
– Тогда письмо не попадет в первую обработанную порцию и вероятность положительного решения вопроса резко снизится. Понимаешь, в последний день должны объявить делегатам, что в адрес съезда поступило столько-то писем и обращений трудящихся, по стольким-то уже приняты решения, остальные переданы в профильные отделы ЦК и на места. Твое письмо должно попасть в эти «столько-то процентов». Понял?
– Спасибо, Анна Марковна! – Я встал.
– Сядь, это только начало. Письмо должно быть не больше одной страницы.
– Почему?
– Потому что первая обработка делается так: короткие письма в одну кучу, а все остальные в другую.
– Почему?
– Некогда длинные жалобы читать. Время поджимает.
– А вы откуда знаете?
– На прошлом съезде я была в такой рабочей группе. Райком послал. На страничке надо сжато, но главное четко изложить суть проблемы и просьбу.
– Ну, теперь-то все ясно…
– Да сядь же ты! Письмо должно быть обязательно напечатано на машинке.
– Это чтобы каракули не разбирать?
– Правильно! И наконец, надо обязательно указать лицо, от которого зависит решение вопроса, и непременно с телефоном.
– Чтобы могли сразу позвонить.
– Да! Соображаешь. Времени мало, а чем больше писем обработано, тем лучше для отчета перед съездом. Нам за это даже премию дали.
– Значит, надо указать телефон врача Хавкиной?
– Лучше начальника ВТЭКа.
– Спасибо, Анна Марковна!
– Не-ет, за это ты, Гоша, напишешь нам сценарий последнего звонка!
…У метро «Каширская», возле остановки 148 маршрута, извивалась нервная очередь: автобуса не было минут двадцать. «Опять козла забивают!» – возмущался народ. Женщины стояли с сумками, распухшими от продуктов, мужчины все больше с портфелями, как и я. Правда, один дедок в большом рюкзаке вез из ремонта стиральную машину «Малыш». В стороне, вдоль тротуара выстроились такси и частники-бомбилы. Они развозили пассажиров во все уголки Орехова-Борисова и брали за это по рублю с носа. Без колебаний я сел в «Волгу» цвета заветренного майонеза. Минут десять таксист искал еще трех попутчиков. Последнего, явно иногороднего, с двумя чемоданами он привел из автобусной очереди, и мы рванули.
…Я все сделал так, как научила Анна Марковна, но скорее для того, чтобы себе и ей доказать: в нашей стране преданных идеалов ленинизма добиться справедливости нельзя. В ту пору я, как и все, слушал «Голос Свободы», страдая вялотекущим антисоветизмом. Однако съезд еще не закрылся, когда позвонила испуганная бабушка Аня: от них только что ушла врачиха Хавкина, которая плакала, умоляя никуда больше не писать и не жаловаться. Через неделю к ним явилась комиссия, осмотрела коммуналку и сказала: «Ага!» Через месяц им выдали ордер, и мы с отцом перевезли их в отдельную квартиру на улице Пестеля в Отрадном, где они и жили до самой смерти. Бабушка скончалась в 1977-м, когда я служил в ГСВГ, и на похороны меня не отпустили, так как покойница в понимании военкомата моим близким родственником не считалась. А тетя Клава… Нет, это жуткая история. В другой раз… Отец же, осознав, что прописан теперь в трехкомнатной квартире, во время семейных ссор к обычным словам «А ну вас всех к лешему!» стал добавлять: «Уеду от вас к Пестелю!» «Езжай хоть сейчас!» – отвечала мать. Тем все и заканчивалось.
…Первым вышел из такси приезжий с двумя чемоданами и протянул водителю монетку.
– Рубль! – замотал головой «шеф».
– В позапрошлом году было пятьдесят копеек.
– А где ж ты был целых два года?
– Дома. Я живу в Хабаровске.
– Теперь рубль.
– Вы не предупредили… Я бы автобусом поехал.
– Вот и ехал бы. Рубль!
– Быстрей, опаздываю! – взмолился я.
– Товарищ, в самом деле, время – деньги! – поддержал меня пассажир в шляпе и тонких очках.
– Ладно, уговорил, но больше так не делай! – согласился водитель, играя желваками.
Хабаровчанин отдал полтинник, схватил чемоданы и поспешил к подъезду. Таксист несколько мгновений рассматривал на ладони монету, потом, выругавшись, швырнул ее в газонные кусты, сел за руль – и машина, злобно взревев, сорвалась с места.