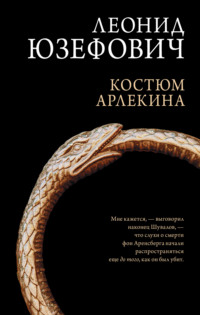
Костюм Арлекина

Леонид Юзефович
Костюм Арлекина
© Юзефович Л.А.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *Пролог
Легендарный начальник столичной сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин был родом из Нового Оскола, утопающего в садах уездного городка на юге Курской губернии. Прожив почти полвека в Петербурге, он сохранил мягкие манеры и выговор южанина, произносил «ахенты» вместо «агенты», любил вареники с вишнями, к старости всё чаще видел во сне меловые скалы над Осколом, после чего всякий раз просыпался в слезах, но на родину его никогда не тянуло. Природа севера была ему милее.
Выйдя по болезни в отставку, весной 1893 года он оставил свою городскую квартиру сыну и обосновался в счастливо купленном когда-то старом помещичьем доме с верандой и яблоневым садом на высоком берегу Волхова. До ближайшей железнодорожной станции отсюда было четыре версты, зато с речного обрыва открывался такой вид, что от красоты и простора щемило сердце. Здесь, на сельском кладбище, лежала жена Ивана Дмитриевича, здесь он безвыездно прожил до самой смерти. Судьба отпустила ему еще пять с половиной месяцев.
Вскоре после переезда Иван Дмитриевич писал сыну: «У меня созрела мысль разработать и издать в виде записок накопившийся в продолжение моей служебной деятельности любопытнейший материал, который мог бы составить что-то вроде уголовной хроники нашей северной столицы за последние тридцать лет. Не попытаешься ли ты заинтересовать этим проектом какого-нибудь солидного издателя?»
Под словом «солидный» подразумевался тот, кто в состоянии хорошо заплатить. Будучи небогатым человеком, Иван Дмитриевич понимал, что для него это единственный способ заработать хоть какие-то деньги.
Само собой, мемуары великого сыщика могли стать ходким товаром. Издатель нашелся быстро, и не один. Иван Дмитриевич выбрал самого щедрого, взял аванс и с увлечением засел за работу. Он привел в порядок свой архив, завел картотеку, составил детальный план будущих записок, придумал названия глав и подобрал к ним эпиграфы, затем дело как-то застопорилось. Всё, казалось, было продумано до мелочей, но по мере того как усложнялся этот план, включая в себя новые пункты и подпункты с римскими или арабскими цифрами, всё бледнее становились картины прошлого, поначалу ослепительно яркие. Однажды утром Иван Дмитриевич с грустью осознал, что чем подробнее план, тем труднее претворить его в нечто большее. Он попробовал писать совсем без плана, но и тут успеха не добился. Не помогали ни кофе, ни крепкий чай. Наконец кто-то из знакомых, кому он жаловался в письмах, рекомендовал в помощники столичного литератора Сафронова, автора двух повестей в «Русском вестнике». Заочно сошлись на том, что за свой труд он получит треть обещанного издателем гонорара, и в августе Иван Дмитриевич встретил гостя на станции в четырех верстах от дома. Это был изящный рыжеватый блондин лет под сорок, вежливый и аккуратный. Его багаж уложили на подводу, сами пошли пешком. Погода стояла райская, на небе ни облачка.
– Красота какая! – восхитился Сафронов.
– Да, места у нас чудесные, – с гордостью ответил Иван Дмитриевич.
Шли полями, вдали уже видна была сверкающая на солнце река. Сафронов сосал травинку.
– Сколько, – спросил он, деловито щурясь, – нам понадобится времени?
– На что? – не понял Иван Дмитриевич.
– На всё про всё. Как долго я у вас проживу?
– Если ежедневно я стану рассказывать по одной истории, то, думаю, около месяца.
– По две-то не выйдет?
– Есть такие, что можно и по две, но немного. Так что рассчитывайте на месяц.
– Я думал, за неделю управимся.
– Зато отдохнете на свежем воздухе. За грибами пойдем, на рыбалку можно съездить.
– А как вы собираетесь организовать наш рабочий день?
– Вы спите после обеда? – в свою очередь поинтересовался Иван Дмитриевич.
– Нет. У меня нет такой привычки.
– У меня тоже. Значит, прямо сегодня и приступим. Я буду говорить, вы – записывать. Всё очень просто. Для скорости советую пользоваться карандашом, причем не граненым, а круглым. Не то мозоль на пальце обеспечена.
– Не всё так просто, как вам кажется. Мне придется изрядно попотеть, чтобы изменить мой стиль до полной неузнаваемости.
– Это еще зачем?
– У меня есть свой читатель, – объяснил Сафронов, – и он сразу смекнет, чьей рукой написаны ваши мемуары.
Обедали на веранде. Здесь же Иван Дмитриевич сам сварил на спиртовке кофе и разлил его по чашкам. Затем, вручив Сафронову план своих записок, он предложил:
– Выбирайте, что понравится. С этого и начнем.
Сафронов прочел заголовки первых трех глав: «Зверское убийство на Рузовской улице», «Кровавое преступление в Орловском переулке» и «Смерть на Литейном».
– Несколько однообразно, – заметил он, проглядев список до конца.
Дальше менялись лишь названия улиц и варьировались эпитеты: одно убийство именовалось «кошмарным», другое – «страшным» и так далее.
– Увы! – развел руками Иван Дмитриевич.
Сафронов пригубил кофе и, возвращаясь к началу реестра, спросил:
– На Рузовской кого убили?
– Прачку Григорьеву.
– А в Орловском переулке?
– Дворника. Фамилия – Клушин.
– Нет ли кого-нибудь починовнее?
– Есть, разумеется. «Смерть на Литейном» – это про барона Фридерикса из Департамента государственных имуществ.
– Его зарезали или застрелили?
– Ни то и ни другое. Орудием убийства послужили щипцы для колки сахара.
– Раскаленные?
– С чего вы взяли?
– Я так понял, что его пытали с помощью этих щипцов и он умер под пыткой.
– Бог с вами! Стукнули сзади по темени, и готово. Старинные бронзовые щипцы, весят, наверное, фунта полтора.
Сафронов слегка поморщился:
– А так, чтобы кинжалом или из револьвера? Таковые имеются?
– Да, но тут уж одно из двух: или пистолет и дворник, или барон и щипцы. Это я, – пояснил Иван Дмитриевич, – типизирую и обобщаю. Вместо барона может быть полковник, вместо щипцов – что угодно. Вот, например, – указал он в середину списка, на главу «Загадочное преступление в Миллионной улице», – есть даже один князь, которого задушили подушками.
– Князь? – оживился Сафронов.
– Да, князь фон Аренсберг, австрийский военный атташе в Петербурге. Точнее – военный агент, как говорили в то время.
– В какое время?
– В 1871 году.
– Кто же его убил?
– Ну, если я так сразу и скажу, вам неинтересно будет слушать. Хотя…
Иван Дмитриевич вышел с веранды в комнату. Через минуту он вернулся, держа в руке исписанный лист бумаги.
– Тут у меня два эпиграфа к этой главе. Они создадут определенный настрой и, возможно, кое-что вам подскажут.
– Почему их два?
– История такова, что одного недостаточно. Во всяком случае, я такого подобрать не сумел.
«Здесь, – начал читать Сафронов, догадываясь, что речь идет о какой-то английской книжной лавке, – еще продаются по шесть пенсов за штуку “Золотой сонник” и “Норвудский прорицатель” с изображенной на обложке молодой женщиной, возлежащей на диване в столь неудобной позе, что становится понятно, почему ей одновременно снятся пожар, кораблекрушение, землетрясение, скелет, церковные врата, молния, похороны и молодой человек в ярко-синем сюртуке и панталонах канареечного цвета».
Ниже указывался автор, из которого это было почерпнуто: Чарльз Диккенс.
Второй эпиграф был гораздо короче и уместился всего в одну строку:
«Пришел посол нем, принес грамоту неписану».
– Что это? Откуда? – спросил Сафронов, не обнаружив указания на источник.
– Древняя русская загадка, автор неизвестен.
– А разгадка?
– Имеется в виду голубь, принесший Ною в ковчег оливковую, кажется, веточку в клюве.
– Полагаете, этого мне хватит, чтобы самому всё понять?
– Не знаю. Зависит от вашей проницательности.
– Ладно, – решил Сафронов, – рассказывайте. Начнем с этого князя.
Из стоявшего на столе стакана с карандашами он, манкируя советом Ивана Дмитриевича, вытянул граненый, очинённый как для смертоубийства, и торжественно раскрыл одну из привезенных с собой толстых тетрадей в зеленой дерматиновой обложке.
В доме с верандой и яблоневым садом Сафронов прожил до середины сентября, потом, вернувшись в Петербург, где то и дело приходилось отвлекаться на газетную поденщину, еще несколько месяцев обрабатывал свои записи. Лишь следующей весной книга вышла в свет под названием «Сорок лет среди убийц и грабителей», но сам Иван Дмитриевич так и не успел подержать ее в руках. В ноябре 1893 года он в две недели сгорел от инфлюэнцы, осложненной отеком легких. Похоронили его рядом с женой. Деньги от издателя получил Путилин-младший, он же честно выплатил Сафронову обещанную долю.
При жизни Иван Дмитриевич был фигурой загадочной: никому из газетных репортеров ни разу не удалось взять у него интервью. Свое дело он предпочитал делать молча. О нем ходило множество легенд, где он являлся то полицейским Дон Кихотом, то русским Лекоком, то фантастически метким стрелком из пистолета, силачом, гнущим подковы, тайным раскольником, или крещеным евреем, или раскаявшимся душегубом, который носит на теле какие-то уличающие его знаки, – но после того, как вышла и выдержала ряд изданий написанная Сафроновым книга, перед публикой предстал обыкновенный господин с пышными бакенбардами, в меру честный, в меру хитрый, в меру образованный. Постепенно легенды о нем начали забываться, печатное слово оказалось сильнее. Тайна исчезла, потух ореол, окружавший имя Ивана Дмитриевича, а отсюда оставался уже один шаг до полного забвения.
Оно и не заставило себя долго ждать.
Трудно судить, Сафронов тут виноват или просто время потребовало иных героев, но в именном указателе столетия фамилия Путилина не значится. Между тем ее следует внести туда хотя бы в связи с делом об убийстве князя фон Аренсберга. Драма, разыгравшаяся на Миллионной улице в ночь на 25 апреля 1871 года, грозила России настолько серьезными дипломатическими осложнениями, что они могли изменить ход истории. Сафронов, надо отдать должное его интуиции, сделал удачный выбор. Излагая события этой драмы, он, правда, в угоду невзыскательному читателю кое-где позволил себе отступить от подлинных фактов, кое-что присочинил, кое о чем умолчал, но одна из дошедших до нас тетрадей в зеленой дерматиновой обложке сохранила рассказ Ивана Дмитриевича во всей его первозданной прелести.
Глава 1
Габсбургский орел
1В то утро Иван Дмитриевич, как обычно, читал за завтраком «Санкт-Петербургские ведомости». Это была единственная газета, которую он выписывал, потому что ее одну позволялось выписывать на дом за казенный счет. Жена очень гордилась этой привилегией, доступной, по ее мнению, лишь избранным.
Трехлетний Ванечка уже проснулся и возил по полу ярко раскрашенную игрушечную бабочку на длинной палке. Под брюшком у бабочки находилось колесико, при движении ей надлежало поднимать и опускать жестяные крылья, но поднималось и опускалось только одно. Второе висело неподвижно.
– Починил бы, – сказала жена. – Там всего-то один гвоздик вбить.
– Починю, починю, – заученно ответил Иван Дмитриевич.
– Когда?
– Вечером.
– Вторую неделю обещаешь, а ребенку вредно играть с уродцами. Плохо влияет на нервную систему, я это по себе знаю. В детстве у меня почти все куклы были с оторванной ручкой или ножкой.
– Странно. Вы ведь вроде не бедствовали.
– Не в том дело. Впоследствии выяснилось, что мать сама их потихоньку калечила.
– Твоя мать?
– Да, у нее была масса идей по части воспитания, главным образом нравственного. Она хотела, чтобы я училась любить моих кукол даже изувеченными и тем самым развивала бы в себе чувство сострадания. И что из этого вышло?
– Что? – снова погружаясь в газету, осведомился Иван Дмитриевич.
– Забыл, какая я была нервная, когда мы с тобой поженились? Чуть что, в слёзы. Просто комок нервов.
Как понял Иван Дмитриевич, сыну предстояло повторить ее скорбный путь, если второе крыло не будет починено.
– Сколько тебе сахару? – спросила жена, ставя перед ним стакан с чаем. – Два куска или три?
– Три.
– Спрашиваю еще раз: три или два?
– Два.
– Так и будешь, – взорвалась она, – как попугай, повторять мое последнее слово? С тобой невозможно разговаривать! Убери ты эту чертову газету! У тебя больной желудок, утром опять изо рта пахло. Хочешь окончательно испортить себе пищеварение?
Иван Дмитриевич отложил газету и посмотрел на часы. У него еще было в запасе минут пятнадцать.
Не притрагиваясь к чаю, он прошел в чулан, принес оттуда молоток и жестянку с гвоздями, взял у сына бабочку.
– Ты что, Ваня? – заволновалась жена. – Не собираешься пить мой чай?
То, что находилось в стакане, называлось у нее то ласково «мой чай», то – с ноткой педагогической стали в голосе – «твой чай», но на самом деле это был сотворенный по рецепту какой-то соседки травяной отвар с небольшой долей настоящего черного чая, под который жена тоже вела подкоп, чтобы заменить его полезным для желудка зеленым.
– Время останется – выпью, – сказал Иван Дмитриевич, выбирая подходящий гвоздь. – Не останется – обойдусь без твоего чая.
– Убери молоток, – велела жена. – Нам с Ванечкой не нужны от тебя такие жертвы. Правда, сынок? Скажи папеньке, пусть он отдаст тебе бабочку и выпьет чай.
– Нет! – топнул ножкой Ванечка.
В этот момент позвонили у дверей.
Выходя в переднюю, Иван Дмитриевич думал увидеть там кого-нибудь из своих доверенных агентов, запросто забегавших к нему на квартиру в случае надобности, но увидел незнакомого молодого офицера в синей жандармской шинели.
– Ротмистр Певцов, – представился он. – Я от графа Шувалова, его сиятельство просит вас немедленно прибыть в Миллионную по чрезвычайно важному делу. Экипаж к вашим услугам, ждет внизу.
– А что случилось?
– На месте всё узнаете. Прошу вас поторопиться.
– Он еще чаю не пил, – басом сказала жена, появляясь из-за портьеры.
– Пожалуйста, господин Путилин, объясните вашей супруге, кто такой граф Шувалов.
– Это, дорогая, начальник Третьего отделения собственной Его Величества канцелярии и шеф Корпуса жандармов, – объяснил Иван Дмитриевич, понимая, впрочем, что влияние Петра Андреевича Шувалова выходит за рамки даже этих умопомрачительных должностей.
– Поймите, мадам, – сказал Певцов, – речь идет о деле государственной важности.
– Но и вы поймите: у моего мужа больной желудок, ему необходимо перед уходом выпить чаю. Это не простой чай, как вы, наверное, думаете. В заварку я добавляю зверобой, шиповник, немного ромашки…
– Ну хватит, хватит, – остановил ее Иван Дмитриевич и повернулся к Певцову: – Знаете, ротмистр, поезжайте-ка без меня. Я приеду сам.
– Позвольте поинтересоваться, скоро ли?
– Самое позднее через полчаса. Глотну чайку и отправлюсь.
Дело, разумеется, было не в чае и даже не в жене. Причина задержки была следующая: как начальник сыскной полиции, Иван Дмитриевич считал недопустимым для себя прибыть на место происшествия, не разузнав прежде, чтó именно там произошло.
Выпроводив Певцова, он допил свой чай, оделся, снял с вешалки котелок.
– Зонтик не забудь, – напомнила жена.
– Ты глянь в окно! Зачем он мне?
– Еще только апрель, сейчас солнце, а к вечеру всё может перемениться. Неужели тебе трудно для моего спокойствия взять с собой зонт? Если бы речь шла о твоем спокойствии, я бы…
Это повторялось каждое утро, независимо от погоды, и сегодня Иван Дмитриевич решил проявить твердость.
– Отстань. Не возьму, – сказал он, поцелуем смягчая резкость тона.
Жена тут же сдалась и спросила:
– Кучера звать?
– Не стоит. Доберусь на извозчике.
– Всегда так. Лошадей жалеешь, а себя не жалеешь, – сказала она, поправляя на муже галстук.
Иван Дмитриевич еще раз поцеловал ее и спустился на улицу. Сразу же с двух сторон к нему подлетели двое извозчиков. Став начальником сыскной полиции, Иван Дмитриевич по утрам всякий раз обнаруживал у подъезда кого-то из этой братии, почитавшей великим счастьем заполучить в седоки самого Путилина. Денег с него не брали. Иван Дмитриевич уважал малую экономию и без зазрения совести ездил на дармовщину, но с одним исключением: неизменно платил тем «ванькам», которые состояли у него в агентах. С ними не позволял себе ничего лишнего.
Он был суеверен и уселся в пролетку к тому из двоих, кто догадался подкатить справа. План был таков: сначала заехать в Сыскное отделение, где наверняка обо всём доложат, а уж потом двигаться в Миллионную.
– Куда прикажете? – почтительно спросил извозчик.
– Сам-то не знаешь? – рассердился Иван Дмитриевич. – Надо было, гляжу, к товарищу твоему садиться, он бы спрашивать не стал.
– Я, Иван Дмитриевич, потому спросил, что, может, сегодня вам не как обычно, не на службу, – начал оправдываться извозчик. – Сыскное-то я, само собой, знаю.
– Почему это сегодня вдруг не на службу?
– Я думал, в Мильёнку. Там, сказывают, австрияцкого посланника зарезали.
– Туда и вези, – распорядился Иван Дмитриевич. – Сам всё знаешь, а спрашиваешь.
2На Миллионной, напротив казарм первого батальона Преображенского полка, возле зеленого двухэтажного особняка густо теснились дорогие экипажи, казенные кареты, ландо с вальяжными кучерами на козлах. Здесь проживал князь Людвиг фон Аренсберг, кавалерийский генерал, военный атташе Австро-Венгерской империи. Иван Дмитриевич имел несчастье познакомиться с ним прошлой осенью, когда у него сперли с парадного медный дверной молоток. Князь тогда устроил такой скандал, что вся столичная полиция с ног сбилась, разыскивая это сокровище. Месяца два держали под наблюдением все лавки, где торгуют старьем или металлическим ломом, но так и не нашли.
На задней стенке одной из карет блестел массивный золотой орел австрийских Габсбургов, тоже о двух головах, но пером пожиже и с длинными голенастыми ногами. Это была посольская карета, Иван Дмитриевич ее хорошо знал. Она стояла дальше от подъезда, чем другие, и, значит, прибыла после них. Отсюда вытекало, что сам австрийский посол, граф Хотек, слава богу, жив, а убили хозяина особняка.
Чтобы вернее оценить масштабы события, Иван Дмитриевич прошелся вдоль строя экипажей. За каретой Хотека стояла простая черная коляска. Кучер был знаком, возил не кого-нибудь, а великого князя принца Петра Георгиевича Ольденбургского.
Возле парадного дежурили двое в штатском. Они отгоняли зевак и просили прохожих перейти на другую сторону улицы, но Ивану Дмитриевичу не было сказано ни слова. Он направился к подъезду. Вдруг откуда-то сбоку вынырнул его доверенный агент Константинов и засеменил рядом, шепча:
– Я, Иван Дмитриевич, вас тут караулю, чтобы известны были, зачем званы…
– Сгинь, – велел Иван Дмитриевич. – Уже без тебя знаю.
Константинов сгинул.
Крыльцо, прихожая, вестибюль, коридор – пространство без форм, без красок. Только запахи, от них никуда не денешься. Справа потянуло чем-то горелым. Ага, там кухня. Впрочем, даже такое невинное наблюдение пока было лишним. Иван Дмитриевич шел на приглушенный звук голосов, глядя прямо перед собой. Ничего не знать, по сторонам не глазеть – так надежнее. Сперва нужно выработать угол зрения, иначе подробности замутят взгляд. Главное – угол зрения. Лишь дилетант пялится на все четыре стороны, считая это своим достоинством.
С отвратительным скрипом отворилась дверь, Иван Дмитриевич вошел в гостиную. Там было светло от эполет, пестро от мундирного шитья. У окна стоял граф Хотек, уже успевший нацепить на грудь траурную розетку. Принц Ольденбургский что-то говорил ему по-немецки, а посол кивал с таким видом, будто наперед знал всё, о чем скажет великий князь. Офицеры и чиновники скромно подпирали стены, мимо них прохаживались трое: герцог Мекленбург-Стрелицкий, министр юстиции граф Пален и градоначальник Трепов. Шувалова не было.
Иван Дмитриевич вошел бочком, осторожно, усилием воли пытаясь сделать свое грузное тело как можно более невесомым. Никто не обратил на него внимания. Он достал из кармана гребешок, причесался, привычно расчесал бакенбарды. К сорока годам они заметно поседели, седые волосы утратили прежнюю мягкость и торчали в стороны, нарушая общий контур. Баки требовали постоянного ухода, но сбрить их Иван Дмитриевич уже не мог. Толстые голые щеки потребовали бы иной мимики и, следовательно, иного тона отношений с начальством и подчиненными.
Причесываясь, он слышал, как граф Пален вполголоса говорит своим собеседникам:
– И что, спрашивается, они нам вечно в глаза тычут: Третий Рим, Третий Рим! Сами давно ли перестали называться Священной Римской империей? Ста лет не прошло! Мне историк Соловьев рассказывал, что двуглавого орла Иван Третий у греков для того и позаимствовал, чтобы не отстать от Габсбургов. Те просто раньше поспели. Теперь же стоит нам обратиться в сторону Балкан, как вся венская пресса начинает вопить, что если мы взяли герб у Византии, то, значит, претендуем на византийское наследие.
В этот момент от группы жандармских офицеров, стоявших у противоположной стены, отделился Певцов. Сейчас Иван Дмитриевич разглядел его получше: высокий, гибкий, матово-смуглый, с глазами того неуловимого не то зеленого, не то серого, не то желтоватого оттенка, который странно меняется в зависимости от времени суток, освещения и цвета обоев на стенах.
– Ну как? – спросил он. – Знаете, зачем вас сюда пригласили?
В самом вопросе было спокойное сознание превосходства жандарма над полицейским чином, поэтому Иван Дмитриевич ответил соответственно:
– Вы, ротмистр, наивный человек.
– Почему?
– Вы решили утаить от меня то, о чем уже судачат извозчики.
Выражение скорбной деловитости, с каким Певцов готовился объявить о случившемся, легко съехало с его лица, он прошел в спальню, через минуту выглянул оттуда и пальцем поманил к себе Ивана Дмитриевича.
Слабое жужжание гостиной передвинулось за спину, сделалось почти неслышно. Прежде чем войти в спальню, Иван Дмитриевич позволил себе удовольствие оглянуться. Пять минут назад до него никому здесь не было дела, зато теперь все смотрели только на него. Лишь принц Ольденбургский и герцог Мекленбург-Стрелицкий уже вдвоем втолковывали что-то Хотеку, у которого был такой вид, словно он давно знал, что военный атташе его императора будет убит в Петербурге, и даже предупреждал об этом, но ему не поверили.
3Князь Людвиг фон Аренсберг лежал на кровати лицом в потолок. На потемневшем, с выкаченными глазами лице, на кадыкастой шее видны были синеватые пятна, показывающие, что курносая со своей косой посетила его уже несколько часов назад. Черная, с благородной проседью эспаньолка взлохмачена, редкие волосы на темени слиплись от высохшего пота. Жутко торчат скрюченные в последнем напряжении, окостеневшие пальцы рук. Сами руки сложены на груди и связаны в запястьях витым шнуром от оконной портьеры. Правая, ближайшая к кровати портьера обвисла без этого шнура, стыдливо заслоняя мертвое тело от бьющего с улицы апрельского утреннего света.
– Доктор уже был, – предупреждая вопрос Ивана Дмитриевича, шепнул Певцов.
Стоя рядом с Шуваловым, едва кивнувшим ему при входе, Иван Дмитриевич разглядывал убитого. Ночная рубашка измята, испещрена кровавыми пятнышками. Один рукав оторван: им связаны ноги у щиколоток. Выше колен ноги князю стянули свернутой жгутом простыней, но и в таком положении он, похоже, продолжал сопротивляться. Это видно было по свисающей на пол перине, изжеванному углу одеяльного конверта, которым, видимо, ему заткнули рот.
– Господин Путилин, сколько вам понадобится времени, чтобы всё тут осмотреть? – поинтересовался Шувалов.
– Двух часов хватит, ваше сиятельство.
– Слишком долго.
– Могу уложиться в полтора.
– Тоже долго. Принц Ольденбургский, герцог Мекленбург-Стрелицкий и граф Хотек пожелали увидеть место преступления. Не могу же я заставить их дожидаться за дверью еще полтора часа.
– Если не будут ничего трогать, пускай войдут, – предложил Иван Дмитриевич. – Я не возражаю.
– Он не возражает! Скажите на милость! – возмутился Певцов. – Неужели вы не понимаете, что Хотеку нельзя показывать покойного в таком виде?
– Ни в коем случае, – поддержал его Шувалов.
– Тогда сколько же времени вы отводите в мое распоряжение? – спросил Иван Дмитриевич.
– Полчаса и ни минутой больше. Осмотр будете производить вместе с ротмистром Певцовым. Ему поручено вести расследование по линии Корпуса жандармов, так что вам придется работать вместе. И прошу вас, господа, помните: вы занимаетесь делом колоссальной важности! Сам государь повелел мне ежечасно докладывать ему новости по этому делу. Начинайте, сейчас я пришлю к вам камердинера, который обнаружил князя мертвым. По ходу осмотра он вам всё расскажет.