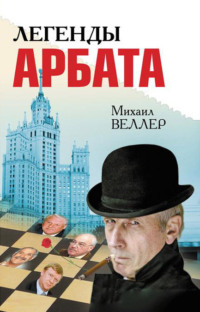
Легенды Арбата (сборник)
– Вы представьте список наиболее отличившихся товарищей.
И руководство Генплана получает за свои пять двадцатичетырехэтажных книжек, развернутых вдоль Калининского проспекта, награды и премии. Только того молодого, что первый насчет челюсти с зубами шефа придумал, не вписали на награды. Бестактен. Рано ему еще.
Тогда начинается реальная работа. Из городского бюджета выделяются деньги. Направляется техника. Высчитывают плановые задания строительно-монтажным участкам и управлениям. И даже дополнительно повышают квоты по лимиту завозной рабсилы. Плановая экономика!
Н-ну. Теперь необходимо сказать пару слов про товарища Суслова. Это вам не похотливый дедушка-козлик Калинин. Михаил Андреевич был человек серьезный и вдумчивый. Сталинского закала и несокрушимой убежденности в победе мирового коммунизма.
Из себя он был похож на перекрученный саксаул внутри серого костюма. Серый костюм был его фирменный стиль, элитный шик. Все в черном или синем – а идеолог партии в сером. Он знал, что его зовут серым кардиналом: ему льстило. Других слабостей, кроме этого партийного тщеславия, он не имел.
Подчеркнуто аскетичный Суслов поставил дело так, что почести его обременяют, а вот поработать он всегда готов из чувства долга и отсутствия прочих интересов. На всех фотографиях сбоку или сзади. И вскоре все тайные и невидимые нити управления были намотаны на его синие старческие руки в прожилках.
Он сидел на своем посту идеолога партии, как гриф на горной вершине краснозвездной кремлевской башни, и взором острее двенадцатикратного морского бинокля проницал деятельность государства.
Он часто болел. Сложением выдался чахоточным. Грудка узкая, плечики хилые, спинка сутулая, рост высокий: пламенный революционер! Фанатичного темперамента боец. Из больниц не вылезал.
Но иногда он, конечно, вылезал. И вставлял всем идеологических фитилей. Чистый иезуит, и клизму ввинчивал штопором. Бдил, как великий инквизитор.
Итак, он суставчато выполз из кремлевской больницы и на ходу приступил к любимому делу: вгонять в гроб товарищей по партии. Типа: я исстрадался в разлуке. Машет жалом по сторонам. Ну, а как там наша красавица-Москва? А? Не слышу!
Красавица-Москва цветет и пахнет ароматами, Михаил Андреевич. Хотя без вашей отеческой заботы, конечно, всем сиротливо. Но крепимся как коммунисты. Вот – строим Калининский проспект.
Суслов, надо заметить, название не одобрял. Он полагал любые половые связи порочащими истинного арийца. Калинин в его глазах был просто старый кролик с партийной индульгенцией, суетливо сближавшийся с любым грызуном противоположного пола.
– Я обязан ознакомиться с проектом застройки, – негромко и самопожертвенно известил Суслов. Долг и партийная дисциплина изнуряли его, но благо державы требовало не роптать.
Тихий нрав Суслова знали. Сталинская выучка. Назавтра в его кабинете вмиг составили макет всей стройки от Бульварного кольца до Садового.
Михаил Андреевич утомленно насладился игрушечной городской красотой на огромном столе для заседаний. Потом он перекрутился в костюме, будто с вечера его завязали на узел, а утром забыли развязать. Лицо его стало терять цвет и выражение. Сталью из глаз он продрал строй проектировщиков как метлой, сдирая с костей мясо и обнажая преступную суть.
– Кто это сделал? – тихим ровным голосом поинтересовался он. Кровавый призрак занял почетное место. Кто это сделал, лорды?
Посохин набрал воздуха, выдвинул грудь впереди шеренги, показал меж губ зубной протез и признался в авторстве. Хотя мы все, Михаил Андреевич.
– Вы еврей? – спросил Суслов.
Подобный вопрос, в прямой форме и на высшем уровне, звучал тогда обвинением в государственной измене. В сущности, порядочный человек не имел права быть евреем. Тайным сионистом и потенциальным перебежчиком из первой в мире страны победившего социализма; с непредсказуемыми родственниками в несчитанных странах.
– Никак нет, – по-военному четко отрекся Главный Архитектор. – Я русский, Михаил Андреевич. – И всем существом жаждая подтвердить этот факт, придал лицу уставное выражение: преданной и радостной придурковатости.
– Тогда вам не могла прийти в голову идея этого проекта, Михаил Васильевич, – ровным угасающим тоном инквизитора, начавшего пытку, констатировал Суслов.
Архитектор восстановил в памяти зарождение идеи и побелел. Рентгеновская проницательность руководства парализовала его волю. Но отступление было невозможно.
– Авторство мое… воплощение коллективное… – капнул каплю оскорбленности в бочку преданности Посохин.
– С коллективом мы еще разберемся, – мягко пообещал Суслов и стал думать.
– Кто из ваших родственников еврей? – спросил он.
– Жена… вторая… – упавшим голосом сказал архитектор.
– Вторая? – поднял бровь Суслов. – А всего их у вас сколько?
– Первая умерла… Она была русская.
– Я ее понимаю, – скорбно сказал Суслов, и это прозвучало так, что вторая жена уморила первую с целью занять ее место.
– Вот! – подытожил он.
– Я не понимаю… – прошептал архитектор.
– Подпал под влияние, – пояснил Суслов. – Вы любите вашу жену?
– Э-э-э… как все… – выбрал соглашательскую линию архитектор, вертясь в ожиданиях напасти.
– Как все не бывает, – ровно и безжизненно, как танк во сне, наезжал Суслов. – Некоторые от своих жен отрекались. И такое бывало.
Дело врачей-убийц и безродных космополитов гремело не так уж и давно. Архитектор подернулся бело-голубым камуфляжем на фоне своего макета.
– Посмотрите, – указал Суслов. – Эти здания – что они по форме напоминают?
– Книгу. Раскрытую книгу. Немного… возможно… напоминают… нам…
– Да. Именно. Я согласен с вами. А все вместе, взятые рядом, что они напоминают?
Молчание было знаком согласия, поддержки и восхищения любой трактовкой верховного идеолога. Проектировщики от преданности аж рыли ковер каблуками. Вы член Политбюро, Партия – вот наш ум, и честь, и совесть.
– Ну?
– Библиотеку? – неуверенно сказал главный архитектор.
– Стаю птиц… – предположил генеральный директор.
– Путь по предначертанной программе в светлое будущее, – продекламировал главный инженер, лучше коллег владевший новоязом.
Суслов устало прикрыл глаза тонкими складчатыми веками, как старый гриф, пообедавший старым индюком.
– Сколько – у вас – здесь – книг? – спросил он, не открывая глаз.
– Ну, пять… – сказали все, бессильно чуя подвох.
– Разъяснения нужны? – спросил Суслов.
– Э-э-э… мнэ-э… – извивались все.
– Как – называется – это!! – рассердился Суслов, обводя жестом макет.
– Калининский проспект?
– Вы ошибаетесь, товарищи. Коммунист и атеист Михаил Иванович Калинин не может иметь отношения к вашему творчеству. То, что вы здесь изобразили, называется «Пятикнижие».
Недоумение сложило мозги присутствующих в кукиш. Коммунисты и атеисты силились понять смысл загадочного прорицания верховного жреца.
– Что такое Пятикнижие? – допросил экзаменатор.
– Э-э-э… мнэ-э…
– Me! Бе! А по-русски!
– Пять томов «Капитала» Маркса? – просветлел главный архитектор.
– Пятикнижие – это священная книга сионизма, – ледяным тоном открыл Суслов, и авторы посинели от ужаса. – Пятикнижие – это учение об иудейской власти над миром. Пятикнижие – это символ буржуазного национализма, религиозности, идеализма, реакционности и мракобесия. Пятикнижие – это знак власти ортодоксальных раввинов над всеми народами земли.
Авторы втянулись внутрь себя, как черепахи. В их контурах засквозило что-то прозрачное. Они стремились слиться с окружающей средой, задрать лапки и притвориться дохлыми.
– Спасибо за облик Москвы, товарищи, – поблагодарил Суслов. В зал пустили газ «Циклон-Б», и потолок обрушился, прищемив когтистую лапу мировой закулисы.
Незадолго до этого журналу «Юность» приказали заменить шестиконечные типографские звездочки в тексте – на пятиконечные! за политическую халатность главному редактору отвесили пилюлей и строго предупредили с занесением в учетную карточку насчет идеологической диверсии.
– Я. Вспомнил. Товарищ. Суслов. – Покаянно выпадают слова из главархитектора.
– Фью-фью? – свистит ноздрей инквизитор.
Иногда ученик предает учителя, иногда учитель предает ученика, иногда кто кого опередит.
– Это… один из моих помощников… Он… я поручил некоторые детали… черты, так сказать. И он – вот! Предложил… именно пять!.. а я… мы… Утеряли бдительность! Товарищ Суслов! Ваше гениальное видение обстановки!
– Фамилия? – удовлетворенно переспросил Суслов.
– Дубровский!
– Н-ну-с. Ладно. Давайте сюда вашего этого. Если можно, пусть там поторопится. А мы здесь подождем!
Можно! Можно, Михаил Андреевич! Поторопятся, не сомневайтесь!
И перепуганного молодого, архитектора-стоматолога в обнимку с его идеей, швыряют в машину и под сиреной мчат по Москве быстрей последней мысли.
– Ваши товарищи и коллеги утверждают, что автор идеи этого проекта – вы, – доброжелательно обращается к нему Суслов. И строй товарищей дружно кивает: «Он-он».
Охреневший от этой доставки в Политбюро самовывозом, молодой неверно истолковывает альтруизм коллег. Его озаряет, что сегодня в мире победила справедливость. И его талант будет вознагражден непосредственно здесь и сейчас. Его отметят, поощрят и выдвинут, не обходя больше.
– Как ваше имя-отчество, товарищ Дубровский? – интересуется Суслов с сочувствием и садизмом.
– Мое?.. Давид Израилевич.
Суслов вздохнул:
– Как это у Пушкина? «Спокойно, Маша, я Дубровский Давид Израилевич».
Все готовно посмеялись высочайшей шутке, доставшей бедного Дубровского еще в пятом классе.
– Итак, Дубровский Давид Израилевич, это вы придумали поставить пять книг? – зловеще мурлычет черный человек в сером костюме.
– Товарищи тоже принимали участие в работе, – благородно говорит автор.
– Товарищи тоже получат то, что они заслужили. Кстати. Какими наградами и поощрениями вы были отмечены за этот проект?
– Н-н… Д-д… Никакими.
– О? Гм. (То есть идея ваша – пряники наши. Коллектив, значит, использовал вашу идею и пожинал лавры, а про вас вспомнили, когда пришло время получать розги?)
Строй архитекторов скульптурно застыл с незрячим выражением.
– В синагогу часто ходите?
– Ва-ва-вы… вообще не хожу.
– Отчего же?
– Я комсомолец!.. бывший. Атеист.
– Похвально. Почему не в партии?
– Ты-ты-ты… так разнарядка на интеллигенцию.
– А в рядах рабочего класса трудиться не приходилось?
– П-п-п… пока нет… но я готов… если Партия прикажет…
– Похвально. А почему же книг именно пять, Давид Израилевич?
– Сы-сы-сы… столько влезло.
– Влезло?! Столько?! Ты все суешь сколько влезет? А пореже?! А по роже?! А сосчитать?! А чаще – нельзя???!!! Па-че-му пять!!!
– Ах… ах… ах… можно изменить!.. если надо!..
– Почему – ты – поставил – мне – в Москве – пятикнижие!!! А???
Под полной блокадой мозга архитектор выпалил:
– У Михаила Васильевича пять зубов в верхней челюсти!
Суслов вытаращил глаза:
– Под дурака косишь? Психиатра позвать?
– Челюсть! В стакане! Я увидел! И машинально! – горячечно причитал архитектор.
– Пародонтоз! Стоматит! Возраст! Михаил Андреевич! – с точностью попал в унисон подчиненному Посохин, клацая и трясясь.
– Да вы все что – сумасшедшие?
– Пусть достанет! Пусть достанет! Пусть покажет!
– Да! Я покажу! Я покажу!
Суслов растерялся. Посохин вытащил вставную челюсть. Все дважды досчитали до пяти по наглядному пособию. Дубровский развел руками. Посохин неправильно истолковал движение сусловского пальца и опустил челюсть в свой стакан с минеральной водой. Все были на искусственном дыхании.
Суслов пришел в себя первый.
– Еще что вы собираетесь достать и мне тут продемонстрировать? – поинтересовался он. – Михаил Васильевич, вставьте вашу запчасть на место.
Дубровский взмахами рук пытался передать эпопею творческой мысли.
– Прекратите изображать ветряную мельницу, постойте спокойно.
Выведя из строя руководство Генплана Москвы и отправив его восвояси принимать лекарства, Суслов занялся Московским Горкомом. При нем городским властям и в страшном сне не пришло бы в голову называть себя «правительством Москвы». Новые либеральные времена не предсказывали даже фантасты. Услышав оборот «правительство Москвы» при живом государстве с вменяемым правительством во главе, бдительный и принципиальный Суслов не успокоился бы до тех пор, пока городское руководство не было распределено поровну между золотодобытчиками Колымы и лесозаготовителями Коми.
– Товарищ Егорычев, по каким местам Арбата намечено проложить новый проспект?
На доклад ходили подготовленными полностью.
– Малая Молчановка, Большая Молчановка, Собачья Площадка.
– Странная подоплека. Интересный контекст. Вот такая девичья фамилия правительственной трассы. Это намек?
Осознавая начало экзекуции, товарищ Егорычев профессионально одеревенел.
– А как вам эти книжечки? – Суслов щедро указал на макет.
– Мы с товарищами предварительно одобрили… коллегиально. Есть протокол.
– Протокол – это хорошо. Думаю, это не последний ваш протокол. Кстати, про протоколы сионских мудрецов никогда не слышали? Сейчас я вам кое-что разъясню.
После разъяснения товарища Егорычева хватил инфаркт, а после инфаркта его отправили на пенсию. А первым секретарем Горкома стал товарищ Гришин.
Главный архитектор оперировался по поводу обострения язвы желудка, Генплан месяц пребывал в состоянии инвалидности разных степеней.
– Мы одобрили ваш проект, – убил всех Суслов. – Красиво, современно, экономично: молодцы. Ставим на Калининском четыре «книжки». Этого достаточно. Вы согласны, товарищи?.. А деньги, уже отведенные бюджетом на пятую… пятое, пойдут на высотное здание СЭВ: потребность в нем давно назрела. Его следует отнести в сторону, изменить, сделать повыше… – Изрекая соломоново решение, он жег мудростью.
И лег обратно в больницу восстанавливать растраченное здоровье.
Дубровского поощрили премией и уволили по сокращению.
А там, где Арбат выходит к Москва-реке, в рекордные сроки возвели 31-этажное книжно-крылатое здание Совет Экономической Взаимопомощи братских соц. стран, в котором ныне трудится не разгибаясь на наше благо мэрия Москвы.
На театре
Кино прикончило театр. Первый луч кинопроектора был как блеск бритвы, перехватившей горло великому и древнему искусству. Зачем переться в душный зал, если можно в звездном исполнении и грандиозном антураже с достоверностью рассмотреть то же самое? Держась в темноте за руки и жуя ириски. Кино отобрало у театра всё: героев, интригу, страсти, развлечение и философию. Добавив от себя крупные планы, безумные трюки и красочный монтаж.
Н-ну, затем пришло телевидение, и старый благородный театр был отмщен. И хорошо отмщен, мой добрый друг! Зачем переться в темный зал, если так удобно дома, на диване, с пивом и закуской, смотреть то же самое? Обсуждение по ходу, сигаретная затяжка и рекламная пауза сходить в туалет.
И вползла, и вкралась ласковая гнусь народных сериалов и реалити-шоу, порноинтернет цинично обнажил свои права на выбор пользователя, и прежде стеснявшееся быдло с достоинством и превосходством оглянулось на нервных эстетов. Сетевые форумы стерли умственную грань между человеком и чебурашкой.
– Ничто не заменит человеку живого общения с живыми людьми на сцене! – горько и гордо декларируют и декламируют театралы, преданные и приданные своему искусству вопреки сытой логике жизни и инстинкту самосохранения, как гонимые христиане были преданы своей секте. Или расчет придан сломанной пушке.
И они правы. Та дрожь сердца, те протуберанцы бытия, которые выбрасывает актер в затаивший дыхание зал… милые мои, за углом кризис, за поворотом инфляция, наверху жулики, впереди кладбище, а кровные деньги застряли в банке, как рыбья кость в заднем проходе, мы любим искусство, но какой на хрен театр?
И вместе с героикой старого театра скрываются в дымке времен те очаровательные мелочи живого общения, которые придавали ему неповторимую, ибо непреднамеренную, прелесть.
1. Графинчик с
В те времена очаровательный рослый мальчик Ваня Ургант еще не рекламировал молочный напиток от запоров, а был анализом из женской консультации. (Гм. Как долог бывает путь в искусство. Нет; лучше так:) В те дни, когда Андрей Ургант, его папа, не только еще не похудел, но напротив, еще не собирался толстеть и был естественно стройным и сверхъестественно выпивающим молодым человеком… но изображенный им крик горьковского Буревестника над равниной перестройки (А-А-А-А-А-А!!!!!!) все-таки не совсем театральное искусство. А мы о театре. Суть.
Когда их мама и бабушка Нина Ургант, прославленная после «Белорусского вокзала», играла в ленинградском театре Ленсовета, короче, ну так она уже тогда пила. Хотя совсем не за это мы любили ее. Милые причуды гениев лишь добавляют зрителям умиленной любви к их человеческим слабостям и порокам.
И была в одном спектакле такая сцена. Ведя диалог, она наливает себе рюмку водки и лихо хлопает. Чем подчеркивается неприкаянность героини и добавляется скромного обаяния ее стойкому характеру. Вот такое сценическое решение.
В графинчике была, естественно, вода. И Нина Ургант отработанным жестом пьяницы закидывала в себя эту рюмку воды. Тихо выдыхала и с повлажневшими глазами подавала свою реплику. И залу сразу понятен ее задорный характер и беззащитная душа. Очень она выразительно эту рюмку махала. Система Станиславского.
Вы уже все поняли. Это должно было случиться раньше или позже. Добрые коллеги устали сдерживаться и налили в графинчик реальной водки. И не хочется, да нельзя упускать такой случай! И радостный актерский коллектив столпился за кулисами наблюдать поединок Мельпомены с Бахусом.
Им это казалось остроумным. Вообще голова актеру нужна, чтобы придавать выражение лицу и резонировать голосу.
Итак: сцена. Стол. Графин. Нина подносит рюмку к губам. Партнер замер и впился в нее глазами, как Цезарь Борджиа, следящий, как приглашенный кардинал сует в рот отравленный персик.
Нина бросила содержимое рюмки в пищевод и деликатно выдохнула. И с некоторым недоверием продолжала слушать обращенные к ней речи. Лицо ее выразило сомнение. Глаза поголубели. Поголубевший взор искал точку опоры в окружающем пространстве. Пока не остановился на знакомом графинчике.
Кивая фразам героя в такт собственным мыслям, она плеснула еще рюмку и выцедила подробно. Это было так точно, что в зале прошелестел аплодисмент.
Речь ее оживилась иронической интонацией. Она повеселела. Реплики о своей нескладной жизни она подавала с бесшабашной удалью, бравируя несчастьем и не ожидая сочувствия. Треснула третью и смачно занюхала носовым платочком.
С язвительностью неизъяснимой Нина спросила:
– Не выпьете ли и вы с одинокой женщиной?
Мыча и блея от слабой мужественности, враг ее извивался:
– Э-э-э… но здесь только одна рюмка. Хотя… охотно!
– Впрочем, мне и самой не хватит… простите!
Зал грянул. Графинчик был поллитровый. Или больше.
С мрачной боевой улыбкой недавняя жертва двинулась на несостоявшегося покровителя. Мужчина сбился с ритма. Психологическая партитура роли потрясла знатоков. В поединке характеров обозначился перелом!
– Вам не идет пить! – останавливал ее циничный жуир, предлагавший только что себя в покровители.
– Да? – легко продолжала Нина свое занятие. – А кто пытался спаивать меня в кабаках? Ваше здоровье!
Беззащитная женщина демонстрировала нравственное превосходство. Она была бедна, обречена, одинока – но дух ее был неукротим. Каблуки стучали, влага булькала, голос звенел.
Напиваюсь, но не сдаюсь!
За кулисами давно перестали хихикать и выставляли вверх большой палец, как требование жизни несгибаемому гладиатору! Почему-то возникло такое представление, что Нина Ургант, чтобы показать шутникам свое превосходство над их хилым скудоумием, должна выпить весь графинчик. Держали пари.
Без закуски и без запивки. Ведя сцену, легко и непринужденно.
– П-почему вы не принесли торт? – издевалась Нина над партнером. – Кс-стати – вы обещали шампанское!..
– Магазин уже закрылся… – неумело оправдывался тот. Он стоял теперь на отбое вопросов, как манекен с теннисной ракеткой.
Спектакль сошел с рельс и замолотил сквозь алкогольную кактусовую чащу.
К концу зал видел элегантно и в лоск напившуюся женщину. Поворачиваясь, она споткнулась и упала на руки героя. Занавес покрыл чувственное объятие. Публика неистовствовала в овации. Коллеги приняли победительницу на руки. Труп Гамлета четыре капитана отнесли в гримуборную.
…Закон парных случаев срабатывает неукоснительно. Через пару недель в том же спектакле заело постельную сцену. Нина с героем падали на кровать. Это было верхом советской смелости и откровенности. Потом гас свет.
Ну, обнялись, упали. Лежат. Отчасти друг на друге. А свет не гаснет. И занавес поднят.
Зал затаил дыханье. Ну?..
Влюбленные начинают накрываться одеялом. Залезли. Свет горит!
Начинают изображать легкую возню. Грань приличий нарушена непоправимо. Зал вытянул шеи и привстал.
Свет горит! Это осветитель и машинист сцены отвлеклись за выпивкой у пожарника.
– Снимите туфли, черт возьми! – раздается язвительный голос Нины. – Вы всегда ложитесь в постель обутым?
Из-под одеяла вылетают туфли.
– Вы так и собираетесь спать в галстуке?
Вылетает галстук.
Эротическая тональность непоправимо переходит в юмористическую. Все ждут вылетания интимных предметов одежды. Свет горит!
– Вы не хотите погасить свет? – интересуется Нина.
Хохот в зале.
– Может, хоть занавеску задернете? Или вы хотите, чтоб нас видели все соседи напротив?
Зал хохочет стоя.
– У меня выключатель, кажется, сломался, – отвечает, наконец, влюбленный.
– Так какого черта вы приводите девушку в гости на ночь глядя, если у вас свет не выключается? – Нина вылезает из постели. – Хоть ванная у вас есть? Мне нужно почистить зубы.
И уходит за кулисы убивать осветителя.
2. Дер партизанен!
Кремлевский Дворец Съездов был возведен во времена исторического оптимизма советского народа. Хрущев отменил культ личности, Гагарин полетел в космос, Братская ГЭС дала первый ток, который медленно пошел по проводам.
А чудный сувенир «На память делегатам XXII Съезда КПСС»! Была расхожая игрушка: гаражик размером со спичечный коробок, нажимаешь кнопочку – дверцы распахиваются, и вылетает маленький автомобильчик, вытолкнутый пружинкой. Так вот: маленький Мавзолей, нажимаешь кнопочку – и оттуда вылетает наружу Сталин.
Потом и Хрущева по лысине, все вообще радовались небывалой свободе. Народный Юморист Райкин программу представлял: «Партия учит нас, что при нагревании газы расширяются!» Народ в атасе: храбро и круто, это – сатира!
Вот верхом советского либерализма был 1967 год. То есть либерализм уже кончился, но этого еще никто не понял, и настроение по инерции было хорошее. Цвели и пахли надежда и вера в светлое будущее мирового коммунизма: типа гибрид новогодней елки и павлиньего хвоста, и там много еды, одежды и бесплатных квартир.
Это был год 50-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. И его готовились праздновать как самое грандиозное торжество во всей Советской истории. А собственно, и мировой. Юные Кобзон и Лещенко вдохновенно пели: «Будет людям счастье, счастье на века – у Советской Власти сила велика!»
А во Дворце Съездов шло супердейство: «Великому Октябрю – пятнадцать декад национального искусства пятнадцати братских советских республик!» И республики прогибались и пыжились счастьем будьте спокойны. Каждый вечер там ликовал или концерт национального искусства, или национальный спектакль, или еще какая-либо непереносимая хренотень, по самое немогу накачанная национальным восторгом расцветшего искусства. Плясуны выкаблучивали, хористки вскрикивали, музыканты лязгали, граждане выключали телевизоры и шли чистить зубы перед сном.
У белорусов с национальным самосознанием было плохо. Белорусы себя от русских не различали. Это ощущалось как одно и то же. Белорусский и великорусский как две почти адекватные разновидности одного и того же русского народа. Условно-административная национальность. И над белорусской культурой мягко издевались оба брата по расе. Был ансамбль «Песняры», и его все любили. А над косноязычным воляпюком официальных «савецких бяларуских паэтов» издевались. Какой смысл говорить на белорусском диалекте, если великорусский литературный богаче и развитее? Таким образом, белорусские спектакли на московской сцене шли на русском языке. Как, впрочем, узбекские, молдавские и грузинские. И ведь без акцента говорили, собаки! Все, кроме грузин. Этих за акцент больше любили.